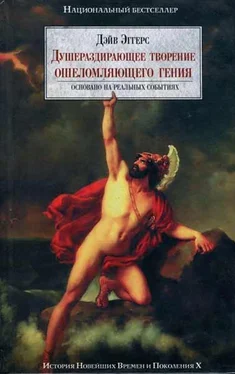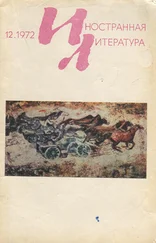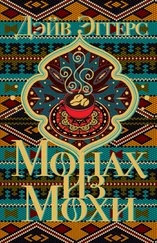Мне хочется, чтобы под рукой были ручка и бумага. Все эти подробности — это очень неплохо. Из этого можно сделать что-то вроде новеллы. Или не стоит. Рассказы о самоубийствах уже писали. Но я разверну все иначе, подключу второстепенные детали: что я думал по дороге в больницу, про бабье лето, про загадку о докторе и про то, как смотрел Конана. Это выразительная деталь: ты хохочешь, пока твоему другу прочищают желудок. Впрочем, и про это уже писали. Может, такое было даже по телевизору, например в «Штакетниках» [132] «Штакетники» (1992–1996) — американский телесериал.
. Ну а я мог бы пойти еще дальше. Я обязан пойти дальше. Например, так: я знаю о текстах, где все это уже описывалось, знаю, что все это уже было, но у меня нет выбора, и приходится воспроизводить все это еще раз, когда все это происходит по-настоящему. Но в таком случае получится так же, как во всех этих штуках, где рассказчик, выросший в медиа-среде, не может жить без того, чтобы все, что с ним происходит, не порождало эхо отголосков из сериалов, фильмов, книг и т. д. и т. п. Чертовы дети! Ну зачем же они так визжат? Все было бы отлично, если бы не их блядские вопли. Значит, придется сделать еще один шаг вперед. Я проведу такую линию: хоть я и переживаю все то, что мне известно заранее, я одновременно осознаю ценность того, что я проживаю это по-настоящему, в неприукрашенной жути, потому что потом это послужит мне великолепным материалом, особенно если я записываю по ходу — или сейчас, от руки, ручкой, которую одолжу у регистратора в приемном покое, или когда вернусь домой.
Может, в машине лежит?
Но если принести, будет грубо.
Итак, вместо того чтобы оплакивать смерть непосредственного восприятия, я буду ее прославлять, буду наслаждаться одновременно и прямым переживанием и десятками его отзвуков в искусстве и масс-медиа, потому что эти отзвуки не девальвируют опыт, а обогащают его — именно так! — делают его многослойнее, придают внутреннюю глубину, не опустошают душу, не отупляют, а порождают новые смыслы. Получается так: сначала непосредственный опыт — приятель угрожает самоубийством, — затем отзвуки всего того, что уже было раньше, затем осмысление этих отзвуков, ярость из-за самого их существования, затем их приятие и включение в контекст как способ внутреннего обогащения, а поверх всего этого — осознание ценности того, что есть приятель, который угрожает самоубийством и которому промывают желудок, потому что так совмещаются жизненный опыт и материал для экспериментальной новеллы или фрагмента из романа, не говоря уж о том, что он, этот опыт, дает право почувствовать свое превосходство перед сверстниками, особенно теми, кто не видел того, что видел я, не пережил всего, что я пережил. Еще один опыт, против которого можно поставить галочку, вроде прыжка с парашютом, путешествия по Европе с рюкзаком или секса втроем.
Вот только эти жирные дети! Ну посмотрите на этих мясных поросят! Это что, передается по наследству? Как отвратительно, что вообще существуют жирные дети.
Итак, я должен осознавать опасности рефлексии, но одновременно я буду продираться через туман отголосков, продираться сквозь смешение метафор, через эту разноголосицу, и постараюсь показать ядро, которое никуда не делось, ядро есть ядро, и оно остается настоящим, несмотря на все наслоения. Ядро — это ядро. Всегда есть какой-то сухой остаток, который нельзя выразить до конца.
Только спародировать.
Я иду взглянуть на Джона.
Изо рта у него торчит трубка, из носа — другая. Та, что изо рта, кажется очень толстой, так что картинка выходит почти похабная. Лицо у него молочно-белое, как будто трубка высосала из него не только содержимое желудка, но и все остальное, в наказание. Он спит, он напичкан колесами, наверное морфием, голова запрокинута вверх и влево, к респиратору. Кажется, руки у него привязаны к кровати.
Руки у него и впрямь привязаны к кровати. Ленты толстые, черные. На липучке. Может, он вырывался или полез на кого-нибудь с кулаками.
Ноги раздвинуты, руки запрокинуты вверх, левой ладонью он все еще с усилием сжимает то, чего здесь нет. И тощие цыплячьи ноги, все в синяках, потому что он, напившись, стукался ими об мебель. И он босиком…
Здесь нельзя босиком: слишком холодно…
И пол грязнее, чем можно было ожидать…
Разве он не должен быть чище? Им следовало помыть…
Я сам мог бы…
Я уже видел все это раньше, видел эту палату, уже бывал здесь: та самая палата, куда привезли с носовым кровотечением мать, сначала ее доставили в отделение экстренной помощи, подсоединили ее, переливания, закачали в нее кровь…
Читать дальше