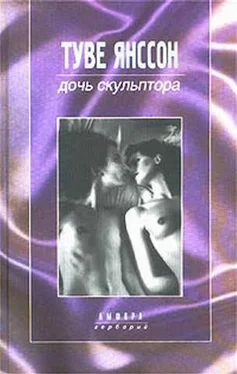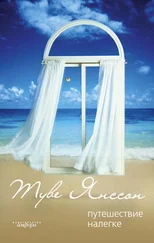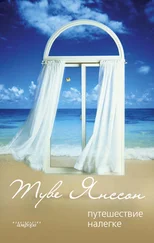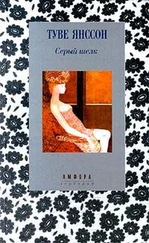Газету приносили в пять часов утра, так бывало каждое утро. Он зажигал ночник, надевал домашние туфли… Очень медленно шагал по гладкому цементному полу, как обычно волоча ноги среди вращающихся шкивов, их тени были черны, как дыры. После отливки гипса он наводил лоск на полу.
Дул ветер, и уличный фонарь за окнами мастерской отбрасывал тени, и сметал их прочь, и снова собирал воедино… казалось, ты идешь лесом, при лунном свете, в бурю. Он любил все это. Обезьяна проснулась в своей клетке и висела на решетке, она жаловалась ему вкрадчиво и льстиво.
— Чертова обезьяна! — сказал скульптор и, выйдя в тамбур, взял свою газету.
На обратном пути он открыл дверцу клетки, и обезьяна, вскочив ему на плечо, крепко вцепилась в него. Она мерзла. Надев на нее ошейник, он закрепил ремень у себя на запястье. Обезьяна была обычной мартышкой из Танжера [1] Город и порт на севере Марокко.
, которую кто-то купил по дешевке, а продал дорого. Время от времени у нее начиналось воспаление легких, и приходилось вводить ей пенициллин. Ребятишки из их квартала вязали ей шерстяные фуфайки.
Скульптор вернулся к кровати и открыл газету. Обезьяна лежала молча, грея лапы о его шею. Вскоре она села перед ним, скрестив красивые лапы на животе и неотрывно глядя ему в глаза. Ее узкое серое личико было отмечено печатью вечного и горестного терпения.
— Чего таращишься, проклятый орангутанг! — буркнул скульптор, продолжая читать.
Когда он брался за вторую или за третью страницу, обезьяна внезапно с молниеносной точностью прыгала на газету, но всегда лишь на те страницы, что он уже прочитал. Это был настоящий ритуал. И вот газета развеяна по мастерской, обезьяна, торжествуя, кричит и ложится спать.
Быть может, это большое облегчение — ежедневно пробегать глазами в пять часов утра строчки, полные чепухи и грязи со всего мира, и получать подтверждение того, что это грязь и чепуха, тем более, что газета разорвана насквозь и не пригодна к чтению. Обезьяна помогала ему избавиться от подобного чтения. Теперь она снова безудержно прыгала по мастерской.
— Чертовка! — ругал ее скульптор, — кретинка ты этакая, старая вшивая обезьянища. Каждое утро он придумывал ей какое-нибудь новое прозвище.
Потом он сунул ее под одеяло, уложив спать и позаботившись о том, чтобы ей хватило воздуха. Обезьяна захрапела, а он перешел к чтению колонки, посвященной искусству. Он знал, что на сей раз напишут о нем. Но в статье содержалась лишь снисходительность — унизительная благожелательность, которую он во внимание не принимал; он был так стар, что ему было почти безразлично. Если бы не обезьяна, он незамедлительно перешел бы к странице, посвященной искусству, но она помогла ему прочитать эту страницу мимоходом, как всякую другую.
— Спи, сатана ты этакая! — сказал он. — Ничего-то ты не смыслишь, хочешь только покрасоваться! Да еще рвать и уничтожать!
И вправду! Обезьяна была такой же, как и другие: малейшая трещинка, малейшие пятно или изъян — раз и пальцы ее уже там, чтобы разорвать или испортить… Она видела все-все, и стоило ей даже мельком заметить хотя бы малейшую тень слабости, она тут же взметалась и рвала, крушила все, что попадалось ей под руку. Такова природа обезьян, ведь они не ведают, что творят, и поэтому им простительно. Других же прощать нельзя. Скульптор уронил газету на пол и повернулся лицом к стене. Когда он проснулся, было уже очень поздно, и он поднялся, испытывая обычное гадкое чувство потерянности, чувство, будто что-то упущено. Он очень устал. Сначала он втащил в клетку обезьяну, она не шевелилась, а только сидела в углу в своем вязаном джемпере, очень узенькая со спины.
На улице царило оживленное движение, и лифт в доме работал беспрерывно. Скульптор сполоснул несколько запачканных глиной тряпок и подмел пол. Легко подметать шлифованный пол! Длинная щетка проникает между ножками вращающихся шкивов, затем едет словно по шелковой дорожке, а потом сметает весь мусор в совок, а оттуда вниз в мусорное ведро. Он любил подметать. Несколько раз по старой привычке он подходил к окну, но выглянуть наружу больше не мог; из-за яркого света оно было закрыто пластиком и стало слепым. Он накормил обезьяну. Ему пришло в голову сменить простыню, и он подумал было, не вытащить ли ящик с гипсом во двор, но потом отказался от этой затеи и еще немного подмел мастерскую. Он собрал кусочки старого мыла, ставшие такими маленькими, что их невозможно было использовать, набил ими жестянку и налил туда воды. Он снял тряпки, испачканные глиной, со статуэтки и посмотрел на нее, повернул на полоборота вращающийся шкив, а потом снова вернул его обратно. Он подошел к обезьяньей клетке и сказал:
Читать дальше