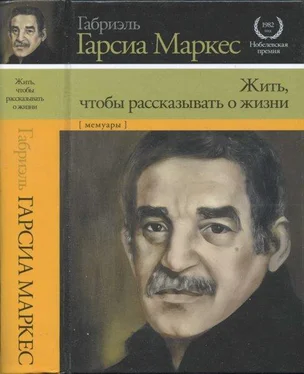В свою очередь, самое давнее воспоминание, которое я храню о моем отце, проверенное временем и весьма отчетливое, — от первого декабря 1934 года, дня, когда ему исполнилось тридцать три года. Я видел его, входящим быстрыми и бодрыми широкими шагами в дом бабушки и деда в Катаке в костюме из белого льна и в соломенной шляпе. Кто-то, обнявший и поздравивший его, спросил, сколько лет ему исполнилось. И ответ я запомнил навсегда, хотя в тот момент, конечно, не понял его:
— Возраст Христа.
Я всегда задавался вопросом, почему то воспоминание мне представляется столь давним, самым первым, ведь несомненно, что до этого я должен был встречаться с отцом уже много раз.
Мы никогда не жили в том доме, но после рождения Марго бабушка с дедом взяли за правило возить меня в Барранкилью, так что когда родилась Аида Роса, он уже был не таким чужим. Думаю, что для родителей это был счастливый дом. Там у них была аптека, и позже они открыли другую — в торговом центре.
Мы снова увидели бабушку Архемиру — маму Химе — и двоих из ее детей, Хулио и Эну, которая была очень красивой, но славившейся в семье своим постоянным невезением. Она умерла в двадцать пять лет, не знаю отчего, но до сих пор говорят, что это случилось из-за порчи, которую навел на нее некий отвергнутый и рассерженный поклонник.
По мере того как мы росли, мама Химе продолжала казаться мне все более импозантной и острой на язык.
В этот самый период мои родители нанесли мне душевную рану, оставившую так и не заживавший до конца шрам. Это было в день, когда мама под влиянием внезапно нахлынувшего приступа ностальгии села за пианино и стала наигрывать «После бала», вальс времен их тайной любви, да и папа преисполнился романтическим вдохновением — смахнул пыль со скрипки и принялся аккомпанировать маме, хотя и не хватало струны. Мама легко приноровилась к его стилю, вспомнив, должно быть, несказанные рассветы юности, и играла лучше, чем когда-либо, вся сияя, пока не подняла голову и не увидела, что глаза отца влажны от слез.
— О ком ты вспоминаешь? — спросила она с беспощадной невинностью.
— Я вспоминаю, как мы с тобой впервые сыграли его вместе, — ответил он, вдохновленный вальсом. Тогда мама вдруг яростно грохнула обоими кулаками по клавиатуре.
— Ты был не со мной, лицемер! — крикнула она во весь голос. — Ты прекрасно помнишь, с кем ты его играл, и плачешь сейчас по ней!
Она не назвала имени ни тогда, ни когда-либо после, но в тот момент мы все в разных уголках дома впали в паническое оцепенение от ее крика. Луис Энрике и я спрятались под кроватями, потому как у нас всегда имелись некие тайные основания опасаться родительского гнева. Аида убежала в соседний дом, а у Марго внезапно подскочила высоченная температура, от которой она пролежала в полубреду в течение трех дней. Даже младшие братья и сестры привыкли к приступам ревности матери, когда ее глаза сверкали и романский нос казался острым, как нож. Мы не раз видели, как она с редкой невозмутимостью снимала одну за другой картины в зале и со звоном и оглушительным грохотом разбивала их об пол.
Однажды мы застали ее врасплох — обнюхивающей одежду отца вещь за вещью, прежде чем бросить их в корзину для стирки. После вечера трагического дуэта ничего особенного не произошло, но настройщик-флорентиец вскоре увез пианино, чтобы продать, а скрипка — вместе с револьвером — в конце концов сгнила в платяном шкафу.
Барранкилья была тогда на передовой гражданского прогресса, мирного либерализма и политического сосуществования.
Решающим фактором развития и процветания было завершение гражданских войн, длившихся более века, которые опустошали страну со времени обретения независимости от Испании и до коллапса банановой зоны, так и не оправившейся от жестокой расправы над забастовщиками.
Но до тех пор ничто не могло сломить человеческий дух. В1919 году молодой предприниматель Марио Сантодоминго — отец Хулио Марио — завоевал общественное признание тем, что, сбросив парусиновый мешок с пятьюдесятью семью письмами на площадь де Пуэрто Коломбиа в пяти лигах от Барранкильи с маленького самолета, пилотируемого североамериканцем Уильямом Кноксом Мартином, торжественно открыл воздушную почту.
По окончании Первой мировой войны приехала группа немецких авиаторов — среди них Гельмут фон Крон, — которые проложили воздушные пути на «Юнкерсах F-13», первых самолетах-амфибиях, преодолевавших реку Магдалену, как чудесные кузнечики, с шестью отважными пассажирами и мешками почты. Это был зародыш «SCADTA», колумбийско-немецкого общества воздушных перевозок — одного из самых первых в мире.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу