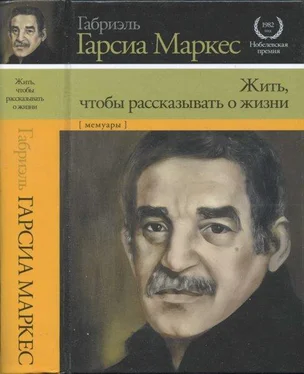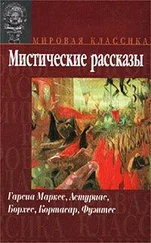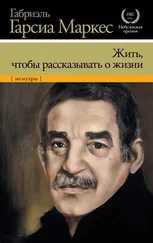Этот рассказ был напечатан с такой же важностью, как и первый, в субботу, 25 октября 1947 года, с иллюстрациями восходящей звезды карибского небосклона — художника Энрике Грау. Меня поразило, что друзья приняли его как нечто обычное для уже признанного писателя. Я же, наоборот, страдал от ошибок и сомневался в успехе, но держался.
Самым неожиданным событием стала заметка Эдуарде Саламеи, напечатанная несколько дней спустя в его ежедневной колонке в «Эль Эспектадоре» под привычным псевдонимом Улисс. Он имел на это право: «Читатели литературного приложения „Фин де семана“ заметят появление нового оригинального и талантливого писателя, яркой личности». И далее: «Воображение может придумать что угодно, но умение предъявить естественно, искренно и непринужденно созревшую жемчужину — это не по силам большинству из двадцатилетних авторов, только начинающих свою литературную деятельность». И закончил безапелляционно: «Гарсиа Маркес — новый подающий надежды писатель».
Такой роскошный отзыв, конечно, свидетельство настоящего успеха. В то же время меня смутило, что Саламея не оставил себе пути для отступления. Позже, когда все уже было позади, я расценил его великодушие как аванс, призыв к моему сознанию на будущее. Оказалось еще, что Улисс отнесся так благосклонно к моим рассказам и ко мне благодаря одному из своих коллег по редакции. Вечером я узнал, что это был Гонсало Гонсалес, родственник моих очень близких родственников, который уже на протяжении пятнадцати лет работал в том ежедневнике под псевдонимом Гог и с неизменным постоянством отвечал на вопросы читателей в специальной рубрике, сидя в пяти метрах от письменного стола Эдуардо Саламеи. К счастью, ни он, ни я никогда не искали друг друга. Я встретил его однажды за столиком поэта де Грейффа и узнал по голосу и резкому кашлю заядлого курильщика, также видел его вблизи на всяких культурных мероприятиях, но нас так никто и не познакомил. Кому-то казалось, что мы не можем быть не знакомы, другие просто не знали нас.
Трудно теперь это представить, но в ту пору мы жили поэзией. Она была для нас главным — неистовой страстью, иным способом существования, огненным шаром, который движется по всем направлениям, куда ему заблагорассудится. Мы открывали газету, пусть даже с экономическими или юридическими новостями, или гадали на кофейной гуще на дне чашки, во всем мы находили поэзию, отражающую наши мечты. Для нас, коренных жителей всех областей. Богота была и столицей нашей страны, и местом пребывания правительства, но прежде всего городом, где жили поэты. Мы не только верили в поэзию и были готовы погибнуть за нее, но и знали наверняка, что, как написал Луис Кардоса и Арагон, «поэзия — это единственное в своем роде ощущение собственного существования».
Мир принадлежал поэтам. Новости в поэзии были куда важнее для моего поколения политических новостей, каждый раз все более угнетающих. Колумбийская поэзия покинула XIX век в сиянии одинокой звезды Хосе Асунсьона Сильвы, возвышенного романтика, в возрасте тридцати одного года выстрелившего из пистолета в кружок, который врач нарисовал ему йодом в области сердца.
Я родился слишком поздно, мне не довелось познакомиться с Рафаэлем Помбо и Эдуардо Кастильо, великим лириком, друзья описывали его как восстающего на закате дня из могилы призрака с орлиным профилем и позеленевшей от морфия кожей в двубортном плаще — внешний портрет проклятых поэтов.
Как-то после полудня я проезжал на трамвае по улице Септима мимо большого роскошного особняка и увидел в его дверях человека, поразившего мое воображение больше, чем кто-либо другой в моей жизни: безупречный костюм, английская шляпа, черные очки на потухших глазах, традиционная руана. Это был поэт Альберто Анхель Монтойа, немного помпезный романтик. Среди опубликованных его стихов встречались шедевры своего времени. Для нашего поколения, к сожалению, такие люди уже уходили в призрачное прошлое, за исключением разве маэстро Леона де Грейф-фа, которого я наблюдал на протяжении нескольких лет в кафе «Эль Молино».
Но ни одному из них не удалось даже приблизиться к славе Гильермо Валенсии, аристократа из Попаяна, который до тридцати лет уже имел авторитет верховного понтифика «поколения столетия», названного так в 1910 году по совпадению с годом обретения национальной независимости страны. Два его современника — Эдуардо Кастильо и Порфирио Барба Хакоб, великие поэты-романтики, оказались несправедливо обделенными читательским вниманием, ослепленным мраморной бесстрастностью произведений Валенсии, чья мифическая тень закрыла собой благословенные труды трех поколений писателей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу