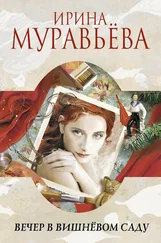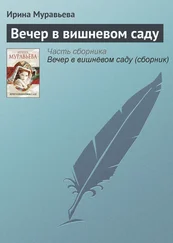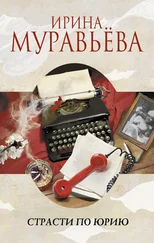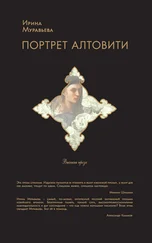Варвара Брусилова, еще худее, чем Дина Ивановна Форгерер, с выступающими из выреза рубашки острыми смуглыми ключицами, коротко стриженная, с огромными, как у бабушки, заполняющими все ее худое лицо, ярко-черными, в мохнатых ресницах, глазами, рывком поднялась на диванчике:
– Ну, встретила? Как он? Приехал?
И вдруг осеклась.
Между этими «бешеными», как называла их Елизавета Всеволодна, очень молодыми и очень красивыми женщинами, у одной из которых был расстрелян незадолго до этого бросивший ее муж Алексей Алексеевич Брусилов, а другая сама бросила своего мужа Николая Михайловича Форгерера, – между этими женщинами, закончившими весною 1916 года гимназию мужа и жены Алферовых, убитых в подвале ЧК летом 1918-го, существовала такая тесная, почти животная, не нуждающаяся в словах, исключительно на интуиции основанная связь, по причине которой Дине не нужно было объяснять сейчас Варе Брусиловой, что она раздавлена и насмерть напугана: та видела это сама. По лицу Дины, не несчастному, не жалкому, а, напротив, полному злобы и вызова, искаженному отвращением, Варя Брусилова поняла, что случилось не просто несчастье, а что-то такое, чему нельзя помочь и на что не подействуют даже те обычные утешения, которые одинаково сильно действовали на обеих, когда они говорили себе, что сдаться нельзя и нет такой силы на свете, которая их бы заставила. Варя увидела, что сила такая была , и это заставило ее босиком, перепрыгивая через лежащие на полу книги, подскочить к Дине, обхватить ее худыми руками и сделать знак бабушке, чтобы молчала.
Елизавета Всеволодна ушла на кухню. Ребенок, у которого только что спала температура, дышал глубоко и посапывал носом, мохнатые, как у матери, ресницы его бросали густую тень на бледные щеки; за окном резко чернела темнота с какою-то, словно бы мыльною, пеной, повисшей на голых ветвях, и Дина, вдавившись лицом в горячую Варину кожу, вышептывала и выдавливала из себя то, чего она никогда и никому, кроме Вари, не могла доверить. Она не могла открыться ни Тане, которая всегда была слабее и пугливее, чем она сама, ни доктору Лотосову, на плечах которого держался, в сущности, весь дом, ни гувернантке, которая была все-таки нерусским человеком и не понимала, как казалось Дине, того, что сейчас происходит в России.
– А что я могла? Когда он сказал про Илюшу, я все подписала.
– Как? Ты подписала?
Дина кивнула и, отодвинувшись, дикими глазами посмотрела на Варю.
– А что я могла? – повторила она.
– Ты хоть понимаешь, что ты подписала?
– Молчи! Я ведь жить не могу…
Варя схватила ее за плечи и начала трясти.
– Какая ты дура! Что ты говоришь? Они же уйдут! Я же чувствую!
– Они никуда не уйдут! А я не боюсь умереть! Я другого боюсь.
– Чего?
– Того, что, когда я умру… они все равно не оставят…
– Его? – Варя еще крепче обняла ее. – Конечно! Ведь он же им нужен. А если тебе убежать?
– Куда убежать? Нет, уж лучше совсем…
– Не лучше! Да как же ты смеешь? А Тата? А я? А мама твоя, наконец?
– Она далеко… Ну, поплачет, забудет… Но я не о том… Варька, у меня все мысли как будто отравлены, все во мне отравлено! Я спать не могу. Ничего не могу. Вот посмотрю на что-нибудь и сразу же – больно. Или дотронусь до чего-нибудь – тоже больно. Внутри все горит. Мне кажется, я просто с ума схожу. Сегодня, когда он мне сказал, что меня найдут в подворотне с перерезанным горлом, у меня от одной этой мысли на душе легче стало. Не думай, что я притворяюсь! У тебя спирта нет?
– Откуда? Какой сейчас спирт?
– Ну, хоть бы чего-нибудь… Чтобы поспать хоть…
Лицо Вари Брусиловой изменилось на глазах: оно словно высохло и почернело.
– Послушай меня! Ничего не случится. Они через год передохнут, и всё! Они же не люди, ты слышишь? Они перебесятся и передохнут. Я ночью проснусь иногда, и вдруг мне кажется, что ничего этого и не было, и нет ничего! Что всё это сон!
– У тебя, Варька, всё – сон. Ты и про Алешу иногда говоришь, что он не умер, что тебе это только приснилось…
– Алеша не умер, – прошептала Варя и перекрестилась. – Иначе бы я это знала.
– Тебе генерал же письмо показал!
– А я не письму, я душе своей верю.
– Нет, ты ненормальная, Варька! Но так даже лучше. С тебя ничего не возьмешь.
– С меня – ничего? А ребенок?
Они одновременно посмотрели на спящего, с мохнатыми ресницами, ребенка. И Дина заплакала.
Как только она заплакала, обеим стало легче. Теперь, когда Варя все знала, Дина могла плакать: преграда для слез, выстроенная одиночеством, рухнула сразу же, как только появился кто-то, у кого от жалости к ней и страха за ее жизнь вот так изменилось лицо, как у Вари.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу