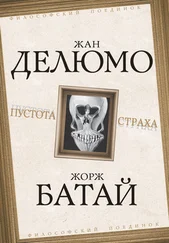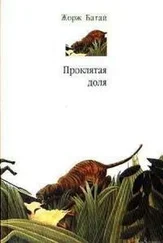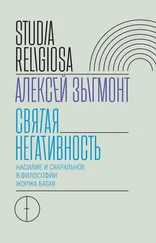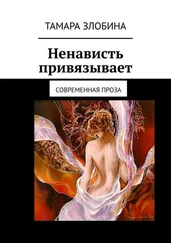Один из главных отрывков, объясняющих различие между «звездной» и «солнечной» эротикой (и вообще переживанием мира), содержится в незавершенной повести «Юлия»:
Теперь уже не звездная пыль ночи — лес огней этого мира — предстает мне как продолжение, магическое зеркало меня самого, — но в самом разгаре дня ослепительный, жестокий блеск солнца! И вот! Вот — отныне — я уже не один! Тревога, которую пробуждало у меня одиночество и спокойное безмолвие ночи, превратилась в тревогу от бесконечного ослепительного дня. Вчера я был ребенком, брошенным судьбой в глуши лесов. Сегодня я пламя — пожираемое — и пожирающее. Я есмь пламя, измеряющее себя по тому, кто жжет меня (с. 218).
«Жестокий блеск солнца» в батаевском мире осмысляется как необходимое условие неодиночества человека, общения с другим и любви. Батаевские герои — не солнцепоклонники, для них солнце не содержит в себе никакой божественной трансцендентности, не олицетворяется в каком-либо божестве. И все же, в отличие от героев Мориса Бланшо, батаевский человек не может удовлетвориться «минималистским» растворением в звездной пустоте, для самореализации и общения с другими ему нужно сверх того еще и активное «солнечное» существование, пусть даже оно и достигается ценой разрушительного «заклания», уничтожения всего мира и его собственной личности.
Если географическое пространство мало соотносится с судьбой героев Батая, то этого как будто нельзя сказать о календарном времени. Иногда, правда, оно практически отсутствует, как в «Истории глаза», или играет роль чисто условной хронологической «привязки», как в «Моей матери»; интересно, что оба эти произведения представляют собой своеобразные романы воспитания, истории взросления юного рассказчика. Если же главный герой — зрелый человек, то обычно про него нельзя сказать, что он живет вне исторического времени: 1934 год в «Небесной сини» — это гражданские волнения в Испании, в которых замешан герой романа; 1942 год в «Аббате С.» — это оккупация и Сопротивление, в котором участвует Робер С; даже в «Невозможном», с его сбивчиво-лирическим повествованием, различимы приметы эпохи — затемненный военный Париж, разрывы бомб в темноте… И все-таки каждому читателю ясно, что тексты Батая имеют мало общего с историческим реализмом. Объективно-хронологическое время подавляется здесь другими, субъективно-мифическими временными структурами.
Иногда, весьма редко, у Батая встречается традиционный для европейской литературы топос энтропического времени, разрушающего счастье людей, дозволяющего им лишь мимолетные мгновения блаженства. Так воспринимает время юный Пьер («Моя мать»), переживая миг единения — пока еще только духовного — со своей обожаемой матерью:
Мы подняли бокалы, и я посмотрел на стенные часы.
— Стрелка не перестает двигаться ни на миг, — сказал я. — Жаль… (с. 464).
Инфантильному, в духе обманутого Фауста, сожалению о «прекрасном мгновении» противостоит умудренное размышление одного из персонажей «Невозможного»:
…Высшее счастье возможно только в тот момент, когда я сомневаюсь, что оно длится; и напротив, оно становится в тягость с того момента, когда я в нем уверен (с. 285–286).
Счастье и не должно длиться, иначе оно никакое не счастье; поэтому, кстати, и задача писателя, повествователя состоит не в «увековечении» рассказываемой им истории, а в стирании ее, как это объясняет Шарль С. в «Аббате С», стремясь действовать не вопреки энтропической силе времени, а согласно с нею, обгоняя ее своим творческим усилием:
Единственное средство искупить грех письма — уничтожить написанное. Но сделать это может только автор; хотя разрушение оставляет нетронутым самое главное, я могу так плотно связать отрицание с утверждением, что перо мое будет стирать по мере своего продвижения вперед. В этом случае оно будет действовать, одним словом, так же, как обычно действует «время», которое от своих умножающихся построек оставляет лишь следы смерти. Я полагаю, в этом и заключается тайна литературы, и книга может быть прекрасна, только если ее искусно украшает безразличие руин (с. 388).
Главный временной вектор батаевского текста обращен не назад, а вперед, его содержанием является не припоминание, а предчувствие, не энтропический упадок, а энергетическое назревание. В своих теоретических сочинениях о «суверенном человеке» Батай стремился изжить сам принцип ожидания и «проекта»; по словам его биографа, он «завороженно предается устрашающим медитациям о мгновении, в котором обращается в ничто всякое время ожидания, — о мгновении смерти» [18] Surya Michel. Georges Bataille, la mort à l'œuvre // Op. cit. P. 532
. Однако в повествовательной прозе конфигурация времени иная: абсолютный миг экстаза, так или иначе соотносимый со смертью, обычно маячит где-то впереди, а в настоящем герои бесконечно и томительно ожидают — только ожидают не какой-либо «лучшей доли», как это свойственно наивному или замороченному сознанию обычных людей, а того самого абсолютного и разрушительного «мгновения», знание которого даровано людям «суверенным» [19] «Все прочее — ирония, долгое ожидание смерти…» (с. 431) — этими почти гамлетовскими словами заканчивается «Мадам Эдварда».
. Миг экстаза — это и есть их будущее.
Читать дальше

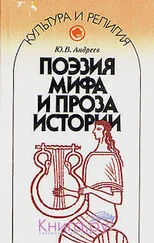

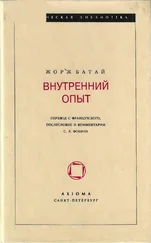
![Тимонг Лайтбрингер - Ненависть, Неверие, Надежда [проза]](/books/278765/timong-lajtbringer-nenavist-neverie-nadezhda-pr-thumb.webp)