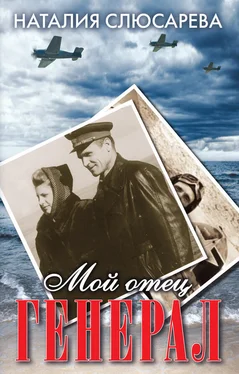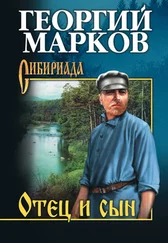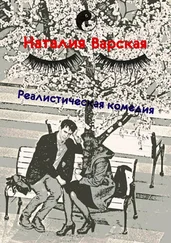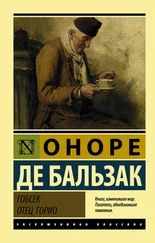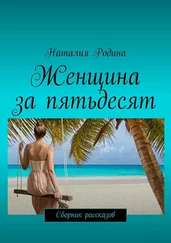С улицы продолжали доноситься шум и крики неудачливых танцоров. К этому времени поспел и наш шашлык по-карски, а хозяйка-княгиня в честь «победы» господ русских летчиков не поставила стоимость кахетинского в счет.
Каждый раз после возвращения с боевого задания неизменно вставал вопрос: как быстро можно устранить повреждения и сколько машин ввести в строй к утру следующего дня? И тут все надежды возлагались на механиков. Иногда диву давались – как можно починить то, что впору оттащить на свалку? Настоящими асами своего дела были техники-стрелки Василий Землянский, Виктор Камонин, Иван Мазуха. Они прямо-таки творили чудеса. На авиакладбище выискивали пригодные детали, узлы, свозили в капониры (земляное прикрытие), все это собирали, стыковали – и, глядишь, ожила «катюша». Нередко техники летали на боевые задания за стрелков. Из-за большого объема работы часто ночевали под крылом самолета, на дутике (хвостовое колесо).
Приказ при налетах укрываться в щелях нет-нет да и нарушался. Предусмотрительно сняв чехлы с задних ШКАСов, ребята словно бы ожидали появления японских штурмовиков и незамедлительно пускали в ход оружие. Не раз попадало за это «фарманщику» – Васе Землянскому. У нас в группе его прозвали фарманщиком за то, что он долгое время летал на бомбардировщике «Фарман-Голиаф».
– Это кто же позволил нарушить порядок?
– Дык... Сидор Васильевич...
– Никаких «дык»! Понятно? Ишь, герой нашелся! Ругать-то я их ругал, а в душе сознавал: на то оно и оружие, чтобы стрелять не только в воздухе, но и на земле.
К каждому механику был прикреплен китайский помощник. Местное начальство часто меняло их, считая нежелательным длительный контакт с советскими людьми. Китайские механики, наоборот, стремились к общению. Специалистами они были не ахти какими, но их отличали трудолюбие, исполнительность. Заправка самолета горючим, маслом, чистка и мытье – все эти операции они выполняли очень тщательно. Между собой старались учить друг друга и языку. Так вспоминал о своем опыте общения техник Корчагин:
«В китайском языке много шипящих и почти отсутствует звук р. В произношении иероглифов настолько тонкие нюансы, что нам не удавалось уловить их даже при многократном повторении одного и того же слова. Мы сидим под крылом самолета, и обучающий меня механик Ли произносит:
– Шен.
Я повторяю за ним:
– Шен.
Он отрицательно качает головой:
– Шен.
Вслед за ним я говорю:
– Шен.
И так может продолжаться без конца. Тогда китайца осеняет мысль, что я вообще косноязычен и не в состоянии произнести требуемое слово. Он дает это понять следующим образом: высунув свой язык, притрагивается к его кончику пальцем, а потом, показывая рукой в сторону моего языка, заключает:
– Пухо. (Плохо.)
Это означает, что мой язык с дефектом и ему непосильны даже самые простые слова и звуки.
Тогда я перехожу в „наступление“. Тут уж приходится нажимать на букву „р“.
– Держатель, – начинаю я.
– Телезате, – повторяет он.
Я отрицательно качаю головой и продолжаю:
– Краб.
– Кылапе. Хо? (Хорошо?) – старается мой ученик и с надеждой смотрит на меня.
Я опять качаю головой. Затем идут слова – „рыба“, „рак“...
Ли понимает, что не справляется с задачей, и тогда я, показывая на свой язык и на собеседника, выразительно произношу:
– Пухо!»
Во второй половине сентября 1938 года японцам удалось захватить пункт Лошань, в сорока пяти километрах севернее Ухани. Китайское командование, готовя контрудар, решило привлечь авиацию для организации взаимодействия с наземными войсками. С этой целью на передний край линии фронта выслали авиационную группу, в состав которой, кроме меня, вошли старший штурман Виктор Терлецкий, штурман эскадрильи Сыробаба и переводчик Ван. Мы рассчитали время выезда на «Форде 8» так, чтобы переправу на реке Ханьшуй одолеть ночью, ввиду того что переправа постоянно находилась под прицелом японской артиллерии.
Выехали на рассвете по глинобитной дороге, еще скользкой от дождя. Вскоре спустились в долину маленькой речушки. Ниже шли ряд запруд для рисовых полей, маленькие озера, заросшие осокой, над которыми дымился восходящий туман. Высокие стебли бамбука, камыш, а также чайные кусты и цитрусовые деревья стояли, покрытые серебристой росой.
Дорога начала зигзагообразно подниматься в гору. Повеяло прохладой. Долина опускалась. Теперь террасовые квадратные и ромбовидные рисовые поля казались игрушечными полосками и треугольниками, а причудливые узкие дороги и тропы, извиваясь и раздваиваясь по склону хребта, обращались в многоголовых драконов и фантастических змей. В стороне от дороги зеленели мандариновые рощи. Наш переводчик Ван подсказал, что это – дикие мандарины, ими хорошо утолять жажду и их можно рвать. Наверное, он сказал это потому, что мы всегда старались ничего не брать в садах и на полях крестьян, зная, как много труда затрачивают они, чтобы все это вырастить. Из любопытства мы сорвали несколько штук. На вкус они оказались чересчур сладкими и отдавали каким-то запахом. Через час нас остановила военная патрульная служба, не позволившая ехать дальше до наступления темноты, ввиду риска обнаружения нашей машины с воздуха. Пришлось остановиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу