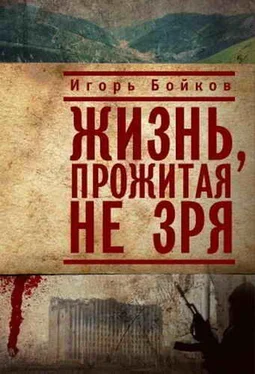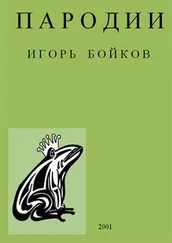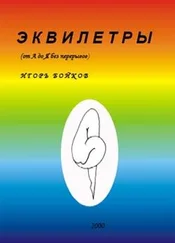О том, что произошло в далёком горном селе вчера, в райкоме ещё ничего не знали.
Чамсурбек улыбнулся с грустью и поскрёб пятернёй свой небритый подбородок.
— Да ты садись. Чего стоишь как чужой? — председатель, хлопнув его по плечу, пододвинул стул.
Они сели. Чамсурбек положил на стол руки — корявые и жилистые, как у всякого горца. И плотно сцепил пальцы.
— Спокойно у нас стало, — ответил он. — Совсем спокойно, — и, подняв глаза, прибавил. — Омар, ханский родственник, вернулся в наше село позапрошлой ночью.
— Омар вернулся?! Это тот самый? — Востриков резко выпрямился. — Да как же может быть спокойно?!
— Теперь может.
— Это как так?
— Нет больше Омара.
Секретарь райкома глянул на него пристально, испытывающе:
— И где он?
— В земле, — бросил Чамсурбек жёстко, и его глаза вспыхнули злым огнём.
Но он тут же потупился, поник виновато:
— Я его убил, — проговорил он тихо, но внятно.
— Ты?
— Да, я. Он пришёл ночью, тайком, чтобы увидеть мать. Её ведь не выслали тогда, год назад, вместе со всей семьёй. И когда утром Омар уходил назад, в горы, то случайно встретил моего отца. И убил его. Кинжалом в живот.
— Омар убил твоего отца?! Убил Вагида?!
— Да. Но убежать он всё равно не смог. Заперся в здании клуба.
— Так, — председатель райкома откинулся назад и нервно скрестил руки на груди. — Так..
— Мы окружили дом, — продолжил Чамсурбек и усмехнулся с горечью. — Поджигать было нельзя — ведь это теперь народное имущество, государственное. Он сам начал в нас стрелять, из окна. Первым. Тогда мы выбили дверь. Омар отстреливался до конца и убил ещё Сагида.
— Сагида?!
— Да. Из нагана застрелил.
Востриков быстро вскочил на ноги, выдохнув с шумом. Затем его челюсти сомкнулись плотно, и на напряжённом, побагровевшем лице заиграл желвачок.
— Вот гнида! — рявкнул он, хлопнув кулаком по столу. — Я же говорил: нельзя контрикам верить! Ни в чём нельзя! Это они так, до поры-до времени затаились. А теперь почуяли, гады, перелом. Поняли, что наша взяла — окончательно взяла! Но всё равно не унимаются, сволочи! Хотят опять, как в двадцатом людям голову задурить? Да только хрен им! Советская власть здесь уже десять лет стоит! И будет стоять!
Помолчали. Чамсурбек стащил с головы папаху и теребил её в руках папаху, выщипывая шерсть.
Затем поднял глаза и произнёс медленно, тяжёлым голосом, разделяя каждое слово, словно судья трибунала, зачитывающий приговор:
— Я пришёл, чтобы меня отдали под суд. Потому что Омара убил я. Сначала ранил из винтовки в живот, когда мы ворвались в дом, а потом добил. Его надо было везти сюда живого и судить за всё. За Гаджи — первого колхозного председателя. За Сагида. За моего отца. Но я не смог сдержаться — и добил его там же, в доме. Вчера я оказался сам не лучше него.
Востриков промолчал. Повернулся, подошёл к окну. Деревянный пол гулко поскрипывал под его сапогами.
— Меня надо судить, — с мрачной решимостью повторил Чамсурбек.
— Ты мстил за отца, — возразил, словно огрызнулся, секретарь райкома. — И за товарища. Которых убил этот гад, — и, шумно выдохнув, с досадой добавил. — Эх, попадись он раньше вот так, в Гражданскую — там бы с ним бы не церемонились! Омар этот — бандит, кулак, ханский родич и наш классовый враг, — продолжал он, возвышая голос. — С Гоцинским десять лет назад здесь по горам таскался. Сколько он тогда крови пролил, а! Совесть-то его, небось, не мучила. И ведь до сих пор, гад, не унимался, пока его твоя пуля не успокоила!
— Помню, товарищ Востриков. Я сам в двадцатом с Красной Армией проводником ходил. Однажды, переходя перевал, мы нашли убитого красноармейца. Бандиты пытали его, а потом перерезали горло.
— Тем более! И нечего тут раскисать. Время теперь, Чамсурбек, такое — переломное! — и Востриков положил ему на плечо свою тяжёлую разлапистую ладонь. — Были уже контрикам прощения да амнистии. И что, угомонились они? Да ни хрена! Чуть прижухли на время — и опять за своё! Должны, они, наконец, понять, что советская власть — она не на время. Она навсегда пришла. Что не будет им больше ни ханов, ни мулл!
— Товарищ Востриков, я сам в селе три года назад мечеть закрыл. Я говорил всем: отцу, старикам, всему джамаату говорил — не будет больше так, как раньше. Новая у нас жизнь теперь. Советская. Говорил, что ханов и кулаков больше не будет. Что кровной мести не будет. Что скот друг у друга угонять перестанут. Что девушек спрашивать будут прежде, чем замуж отдавать. Мы с Сагидом пример всем подавали. Мы говорили людям, что у них будет теперь жизнь, которую они проживут не зря.
Читать дальше