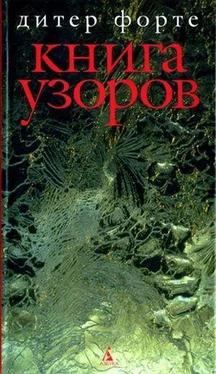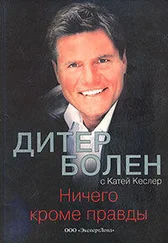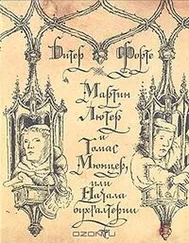Жан Поль, который с годами становился все молчаливее, мог часами стоять в задумчивости у ткацкого станка. Он смотрел и смотрел на медленно, но неуклонно тянущиеся нескончаемые нити основы и сравнивал их с уходящей жизнью; само сплетение нитей основы в единую ткань он воспринимал как знамение судьбы, как предопределение; а нить утка, которую челнок безостановочно вплетал в основу, – как сам ход жизни, когда предназначенное обретает в реальности весьма фантастические, причудливые формы, превращая все дела и усилия человека в определенный узор его судьбы. Этот узор придает всему течению человеческой жизни смысл, направление и форму – другими словами, он создает то, что можно уже называть человеческой жизнью, судьбой. Это жизнь, у которой свой собственный, неповторимый узор.
Связанный обязательствами с другими членами семьи, а также под влиянием пастора Ла Метри, своего постоянного собеседника, он покинул лоно Римской католической церкви, которая посадила Папой одного из представителей рода Медичи, и, руководствуясь доводами разума и собственным глубоким убеждением, вступил в общину реформированной церкви Лиона. Он совершенно отошел от дел, перестал заниматься делами, в особенности с тех пор, когда ему была доверена казна всей общины, которой он добросовестно управлял до самой своей смерти. Он оставил мануфактуру, когда она была процветающим, солидным предприятием. Ей принадлежало более пятидесяти ткацких станков, она снабжала тканями всю Европу и носила гордое имя «Мануфактура Фонтана».
В воскресные и праздничные дни они приходили на кладбище, сидели у родных могил, ели хлеб, пили водку, смеялись, плакали, рассказывали друг другу о минувшем. Это были истории, которые все знали и которые передавались из уст в уста. Они раскладывали возле могил свои немудреные припасы, пили и ели, не забывали и предков своих почтить хлебом-солью, даже стаканчик водки ставили на могилку. Они поправляли завалившиеся кресты, обновляли полустершиеся надписи, рассказывали друг другу истории об умерших, истории, всем давно известные, но обраставшие всякий раз новыми умилительными подробностями, это был их долг перед усопшими, сыновний и дочерний, ведь когда-нибудь и о них будут рассказывать, когда они тоже лягут здесь, возле своих матерей и отцов, бабушек и дедушек, рядом с дядьями и тетками, рядом со всеми прочими, на чьих могилах лежат сгнившие обломки крестов, а земля осела, – в той дальней части кладбища, где лежали те, кого никто уже не помнил, но о ком все знали. Были забыты их имена, и никто не помнил, когда они жили, но зато все помнили их истории.
Здесь лежал тот, кто когда-то вонзил лопату в голову немца-управляющего, который присматривал за имением своего хозяина-чужеземца откуда-то из Пруссии. Он одним ударом раскроил череп надвое, удар был такой силы, что лопата застряла где-то в грудной клетке. А потом он бежал на лодке по реке, в этой лодке он и был найден мертвым.
Здесь лежала та самая женщина с рыжими волосами, ведьма, которая своим колдовским заклятием и неким таинственным напитком спасла всю деревню от болотной лихорадки. Только она одна и умерла от этой лихорадки, потому что забыла наложить заклятие на себя саму, а напитка ей просто не хватило.
Вспоминали они и историю одного лесоруба, который свалил дерево да вместе с ним случайно и упал в реку и, изрыгая проклятия, поплыл на нем вниз по течению. Там, у очередной переправы, дерево застряло и пустило новые корни. И по сю пору это дерево стоит у берега в воде, а лесоруб так там и остался; долгие годы его скелет преспокойно лежал в дупле дерева. Потом его достали и предали земле на этом кладбище.
А еще рассказывают историю о женщине из Кракова, у которой было два языка, и она всегда одновременно разговаривала на двух языках. Это была толстуха непомерных размеров, на голове у нее был платок из золотой ткани, а на шее – серебряная цепь, которая свисала до земли. Как только она открывала рот, слышалась речь сразу на двух языках. Поговаривали, что привезли ее какие-то офицеры из Франции, но точно никто этого не знал, знали только, что умерла она у монашек, которые ее и похоронили.
Каждое воскресенье и в каждый праздник пересказывались эти бесчисленные истории, все новые версии этих историй, а в День поминовения усопших, когда вслух произносили имена тех, кто горит в геенне огненной, и все хором возносили молитвы и шли на кладбище с зажженными сальными свечами и в сумерках тянулась туда процессия из блуждающих огоньков, – просыпалась память о забытых, о тех, кто был до них, о людях, которые дали им жизнь, придали ей смысл, о тех, кто лежал теперь в темной земле, а над этой землей с громким криком кружили черные вороньи стаи.
Читать дальше