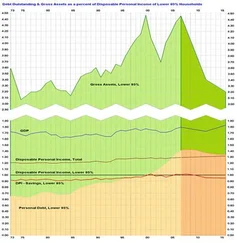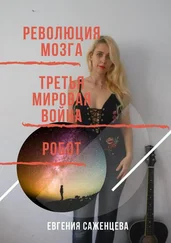Чай обжигает брусникой и холодит мятой. Никогда столько чаю не пил. Будто родился заново. Но сразу взрослым и сильным. Такое чувство, что весь мир могу поднять и на плечи себе взвалить.
— …но жить там совершенно невозможно. Огромный город, пятьсот тысяч человек…
— Пятьсот тысяч? Ты не путаешь? У нас во всей области без малого двести.
— Ничего я не путаю. Пятьсот, а с приезжими и все шестьсот. Представляешь?
— Я в Москве всего два раза бывал…
— И нечего там делать. Руки опускаются. Такие рожи бывают, что без содрогания взглянуть невозможно. Здесь не то. Каждый человек отдельно живет, нет того людского теста на улицах…
— Людского теста?
— Ну да…
— Это ты хорошо придумала. Очень выразительно. Сразу зрительный образ появляется. Как будто бы много людей, и из них, как из песчинок муки, замешивается тесто.
— Точно. Зрительный образ, ты сказал?
— Ну да…
— Зрительный образ. Надо же…
Неужели это она и это я? Я и она? Каждое слово разговора будто кусок сладкого яблока откусываю. А сама она слаще любого яблока, слаще меда и сахара. Смерть и воскресение слиты в нас с ней, снова желанная смерть, и снова длительное рождение обратно в мир.
— А еще я тебя здесь встретила. Значит, не зря приехала.
— И я тебя. Тоже не зря приехал.
— Но у тебя папа умер… Ой, прости…
Отпрянула, потупилась.
— Папа бы, наверное, за меня порадовался. Он ведь не простой был человек…
— Не простой? Это что значит?
Погоди. Зачем я про отца говорить начал? Да и пусть. Все неважно рядом с Машей, все к ее ногам положу…
Вытащил письмо, прочел вслух, невольно подражая папашиной интонации. Показал свою недавно обретенную реликвию. Маша бережно взяла ее в сложенные лодочкой ладони. Посмотрела сквозь стекло на ноготь большого пальца. У меня от этого ее жеста почему-то на миг остановилось дыхание. В точности так сделала, как я сам вчера. Защелкнула стекло обратно. Помолчала. Меня даже сомнение посетило — не поторопился ли я с признанием.
— Пойдем, — Маша мне говорит. — Я тебе тоже кое-что покажу.
— Куда?
— На чердак.
Накинула халатик, затянула пояс. Что там, на чердаке?
— Теперь мне все понятно, — Маша на ходу ко мне оборачивается. — Я, признаться, что-то подобное и подозревала. Виделось мне в нашей жизни нечто трагикомическое, гротескное. У некоторых заволжских народов есть мифы о том, что боги прогневались на людей и лишили их памяти. Я ведь была в нескольких экспедициях. До самого Урала доходила.
— Как интересно! Расскажешь?
— Конечно. Но уж интереснее твоего рассказа ничего нет.
— Только смотри, это большая тайна. Опасная притом.
— Я все понимаю. Лестница вон там, внизу.
Вытаскиваю из-под лавки лестницу. Как будто спрятана она там, под пустыми мешками. Приставляю к чердачному проему. Лезем вверх, Маша первая, я следом. На чердаке пусто. Ни сена, ни соломы, ни старого хлама. В недоумении оглядываюсь. Маша с трудом отгибает от кровли уголок рубероида.
— Смотри, какая здесь крыша.
Подхожу ближе. Выглядывает белый металл. Ну и что, сейчас многие дома железом покрыты. Это раньше только соломенные крыши были. А в Германиии все дома под черепицей. Красиво. Непонятно только, зачем железо этой дрянью с двух сторон обшили. От этого сырость может завестись, ржавчина пойдет.
Маша сильнее дергает рубероид. Еще сильнее обнажается сверкающая металлическая изнанка. А ведь это никакое не железо. И даже не кровельная медь. Тщательно укрыт белый металл изнутри и, припоминаю, снаружи тоже. Черная толевая крыша у Марусиного дома. А внутри кровли вон какая красота.
— Что это, Маша?
— Ага! Григорий, отец бабушки Маруси, напал в лесу на большую воронку, а там непонятный, сильно измятый аппарат. Или прибор, не знаю. С диковинными крыльями, кабинкой, щупальцами. Он с ним месяц возился, но перевез домой, выправил и покрыл этим странным железом крышу. Чтобы не текла. Жили тогда бедно, Григорий лесником работал. Лесом и кормились, жалованье было маленькое.
— Погоди, ты хочешь сказать, что весь дом покрыт этим белым листом?
— Верно.
— И что эта кровля не пропускает… не пропускает…
— Не знаю, Миша. Но как только ты про свои пластины рассказал, у меня как будто бомба в голове разорвалась. И ведь Григорий сразу эту крышу в несколько слоев обшил, а все, что от прибора осталось, в лесу зарыл и место никому не указал. Тоже, наверное, кое-что знал, но, в отличие от твоего папы, делиться не захотел.
— А потом что было?
Читать дальше


![Андрей Загорцев - Третья мировая. Трилогия[СИ]](/books/135760/andrej-zagorcev-tretya-mirovaya-trilogiya-si-thumb.webp)