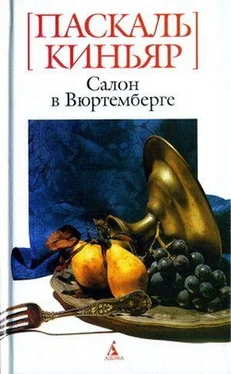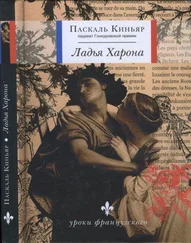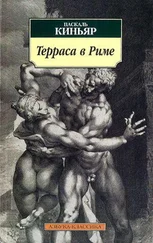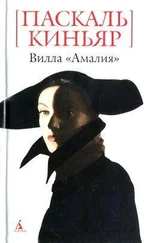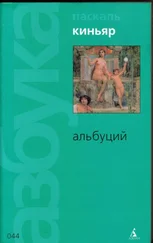Мне удалось совершить еще одну сделку – по просьбе Рауля Костекера, – продав красивейшую виолу с изящными деками и оригинальной свирепой головой Медузы, венчавшей гриф вишневого дерева, но с нечистым, глухим звуком. На свои комиссионные я купил «рабочую» виолу да гамба и клавесин – довольно посредственную копию клавесина Хемша. Все это время я пребывал в каком-то волшебном опьянении. Наконец-то я жил на набережной, совсем как Мари д'Агу, – ибо познал ту же судьбу, что и она, причем в той же пропорции и последовательности, а именно: родившись истинным немцем, затем стал истинным французом. [55] Агу Мари де Флавиньи, графиня д' (1805–1876) – французская писательница, родившаяся во Франкфурте-на-Майне. Дружила с Альфредом де Виньи, Генрихом Гейне, Жорж Санд и другими известными деятелями культуры
Единственное, чего мне еще не хватало, был замок Круасси.
Когда все было готово и дом приобрел жилой вид – вернее, начал меня более или менее устраивать, – я отбыл на три дня в Штутгарт, где в данный момент находилась Марга; она жила в студии моей сестры Люизы, окна этой квартирки выходили на деревья Шлоссгартена. Там я и увиделся с Люизой, нимало не встревоженной своим состоянием, и ее сыном Винценцем. Потом Марга потащила меня на немецко-французскую границу, в Пфульгрисхейм, где ее супруг купил небольшую загородную виллу. И вдруг, сам не знаю почему, я решил наведаться в Бергхейм. Мне хотелось – даже не могу точно сформулировать свое намерение, – скорее всего, обозначить некий предел, перевернуть страницу, совершить паломничество, получить благословение страны моего детства; по правде говоря, когда я прибыл в пять часов дня из Хейльбронна и в полном одиночестве ступил на причал Бергхейма, мне почудилось, будто я попал внутрь очень старой наивной открытки, лубочной картинки, знакомой до мельчайших деталей и застывшей в таком виде на самом дне моей души. Я не был здесь целых восемь лет. В 1962 году, во время военной службы, когда моя мать умерла в Нейи, я отказался сопровождать до Бергхейма ее гроб в маленьком черном похоронном автобусе. Предзакатный свет вызолотил все вокруг, вплоть до белой разделительной полосы на шоссе, вплоть до хромированных частей автомобилей. Вот только небо казалось более тусклым – или это я сам стал более несчастным. Хотя мог ли я быть несчастнее, чем в детстве?! «Нет, – думал я, – наверное, небо тогда еще было не таким заношенным, как сегодня». Вот уже тысячи лет свод небесный волшебным образом меняется в глазах людей, которые его созерцают, которые стареют. Я предполагаю, что в начале творения небо было сиренево-синим, почти черным, и отливало грозной синевой акульей кожи, близкой скорее к индиго или краскам Севра, нежели к яркому кобальту или нежному перваншу. Затем небо, как и время, сильно выцвело. Помнится, в этом, 1965 году власти закрыли для туристов пещеру Ласко.
Я снова вдохнул запах Бергхейма, – этот тошнотворный, сладковатый запах теплой, забродившей гнили накрыл меня невидимой волной. Я зашел выпить стаканчик в маленькое привокзальное кафе «Флориан». Немецкий язык – ненавистный язык – возвращался ко мне какими-то приливами, толчками. Ритмы речи, разговоры окружающих – все это проникало в меня флюидами на почти химическом, почти тактильном уровне, однако оттенки слов, тонкости стиля ускользали от моего понимания. Минуло восемь лет, а чудилось, будто целых сто восемь, будто сам я стал совсем другим. Я направился к нижней церкви, но та была закрыта. Тогда я пошел за ключом к хранителю органа, герру Гешиху, в чьи обязанности входило поддувать педалью воздух в трубы; он меня не узнал. Что неудивительно: за это время я успел слегка подрасти, – ведь когда меня отдали в пансион, мне было всего тринадцать лет. А теперь – двадцать два. Да и сам он ужасно постарел – если не считать взгляда. Герр Густав Геших зарос дремучей седой бородой и начал слегка походить лицом на красавца халифа Гаруна аль-Рашида с картинок «Тысячи и одной ночи». Тетушка Элли, фройляйн Ютта и мои сестры утверждали, что он целыми бочонками хлещет вино, достойное пиршеств княгини Пфальцской, которая могла, по рассказам очевидцев, одним глотком осушить двухлитровый кубок. Герр Геших отличался жестоким нравом. Мадемуазель Обье сказала бы, что он поклоняется святому Бедокуру и святому Блевуну и что только такой отъявленный лютеранин, как он, может сам себе отпускать все безобразия. «Мы обречены на грех!» – возглашал он и, в подтверждение этого постулата, регулярно напивался в дым и колотил жену. «Мерзок я в прегрешениях моих!» – причитал он, обливаясь слезами, и пил снова, после чего опять, но с еще большим увлечением, лупил свою половину. А в остальном – прекраснейший человек, хотя для меня так и осталось тайной, каким образом ризничий и хранитель органа в католической церкви, где и мессы-то давно перестали служить, сделался горячим приверженцем учения Мартина Лютера.
Читать дальше