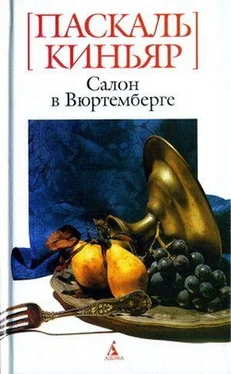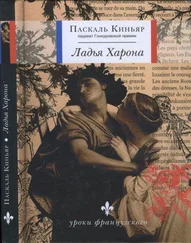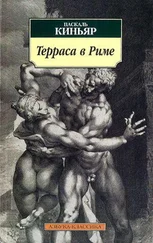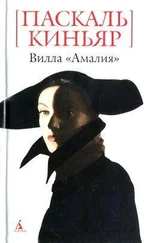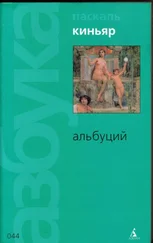По утрам, в четыре-пять часов, я выносил на дорогу темно-серый пластиковый мешок с мусором, тяжелый и зловонный. К одиннадцати часам я шел за хлебом в булочную на главной улице Невилля, а потом в бакалею – за пивом, вином и печеньем. Я взялся готовить еду, поскольку Ибель этим больше не занималась. Не знаю, по какой причине, но мадам Жоржетта уже не приходила варить нам обед. Ибель потеряла всякий интерес к хозяйству: у любви свои законы, а у несчастья свой этикет, не позволяющий осквернять руки стряпней и думать о какой-то пошлой бакалее. К вечеру я нехотя брался за метлу – или за тряпку, – предварительно убедившись, что Ибель меня не видит. Как говаривал Клаус-Мария, усердный адепт сидячих медитаций: «Будда живет что в храме, что в швабре для туалета». На это Ибель отвечала – не без юмора и довольно логично, – что уж мне-то никак не грозит перспектива поселиться в храме, а стало быть, нужно смириться с туалетом. Правда, пока еще не нашлось ни одной религиозной заповеди, даже индийской, способной привести меня к смирению. Однако я остерегался трогать одежду Ибель, раскиданную по всей комнате.
Женщины, которых я встречал в своей жизни и которые, без сомнения, освещали ее – главным образом в самые яркие, солнечные часы, – были настолько великолепны, имели такое высокое и убежденное мнение о собственной ценности, что не делали практически ничего, что могло бы бросить на нее тень и, следовательно, уронить их в собственных глазах, – вообще ничего конкретного, если не считать владения чужим телом. Все, что имело отношение к пище земной, к местам, краскам, мыслям или звукам, не внушало им энтузиазма. Как не внушала его и перспектива сложных, всесторонних отношений, прочных и долгих связей, глубокомысленных рассуждений о жизни (даром что и в них они были сильны, хотя в чем они были не сильны?!), тогда как эти последние обладают в моих глазах одним замечательным свойством, а именно сулят такое же удовольствие, какое в детстве нам доставляли бессмысленные, но ритмичные считалочки.
Было девять часов. Я бросил переводить. Снова выглянуло солнце, его лучи затопили комнату» где я работал. Я спустился в сад и устроился на газоне поближе к дому, поставив рядышком два кресла. Таким образом я давал понять Ибель, что желаю ее присутствия. Утреннее солнце опять грело жарко, почти обжигая. Вдали, за дубами и зонтичными соснами, виднелось темно-зеленое, с маслянистым отблеском море. Помнится, я читал и правил партитуры Себастьена Ли и Гольтерманна, слегка скучая И вдруг меня словно током ударило, как будто прозвучал давно готовившийся приговор: я понял, что не люблю эту музыку, что люблю произведения XVII, в крайнем случае начала XVIII века, что я расстанусь с Ибель и вернусь в Париж, что отныне меня волнует только музыка барокко, что я стану великим виолонистом, что когда я приду к Аррокуру, гости почтительно расступятся передо мной, спрашивая: «Кто это?» – а им ответят почтительным шепотом: «Это новый Сент-Коломб. Разве вы его не узнали? Это новый Марен Маре. Это новый Кюпи!» [45] Сент-Коломб, Маре, Кюпи – французские композиторы и музыканты XVII – начала XVIII в.
И я решил уехать, вернуться в Париж, изменить свою жизнь. Я уже начинал ненавидеть Нормандию. Нормандия уподоблялась в моих глазах клеенке с розовыми орешками и ярко-зелеными листочками папоротника, которые мадам Жоржетта после каждой трапезы пыталась стереть, если можно так выразиться, влажной жирной тряпкой. Эта клеенка – ярко блестевшая, словно лужайка с влажной сочной травой в солнечный день, – выглядела под лампочкой, висевшей над столом в центре кухни, такой же липучей и клейкой, как умирающая страсть.
В общем, эта трава, эти дожди, это море, эта женщина стали для меня источником отвращения. Утесы, моллюски на камнях, осколки раковин, ранящие ноги, склизкие водоросли, заводи с мидиями и купальщиками, вульгарность всех нас, живущих здесь, создавали ощущение захолустья в сравнении с городом, дачной жизни – в сравнении с просто жизнью, и все это казалось безнадежно провинциальным и скоропреходящим, безысходным во времени, в сердце и в пространстве. Я возненавидел чувственные утехи, регулярные, как доение коров в хлеву, в одни и те же часы, и неизбежные, как болезненный зуд воспаленной ранки, когда кажется, что стоит перетерпеть, не расчесывать ее денек-другой, и она затянется, а зуд утихнет. Вдобавок ко всему мне надоела непогода: бесконечные дожди насквозь пропитали газон, мешая сидеть в саду. А в этом году нас донимали еще и полчища ос, комаров, пчел, мух. Днем – медузы у самого берега, ночью – комары. Я хватался за старый роман, полный всяческих ужасов; чего там только не было: и мучительная смерть сына плотника, и роковые красавицы, соблазнявшие своей наготой мужчин, чтобы затем убить их, и новорожденные младенцы, съеденные обезумевшими от голода матерями вместе с пуповиной и последом, – и увлеченно давил им комаров. Когда мне удавалось прикончить хоть одного, я говорил себе: «Гляди-ка, вот и Библия хоть на что-то сгодилась!» Шестого августа я уже был в Париже. Восьмого августа я восстановился на работе в школе. Затем поехал в Сен-Жермен-ан-Лэ, чтобы обнять мадемуазель Обье.
Читать дальше