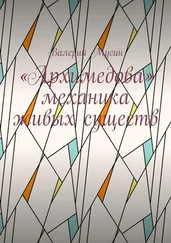Вот диковина – серафим снова не отвел мне глаза! Я оглянулся назад, чтобы приобщить к событию Нестора, но позади меня темнел уходящий косо вверх коридор, и лишь метрах в пятнадцати, на перекрестье с другим ходом, маячил, играя тенями и затухая, желтый отсвет удаляющейся по боковому лазу свечи. Ни Нестора, ни Князя, ни Матери–Ольхи. Только тьма и подземный холод, который, наконец, пробрал меня до селезенки. Однако дух мой не дрогнул, он был силен силой стаи: темна ноченька белу свету покорлива… Я обернулся к серафиму: впереди никого не было, лишь густо чернел в глубине тяжелый нижний мрак да трепетали неверные отсветы из двух боковых проходов. И уже не разделимые на слова, свернувшиеся в шары с шорохом катились прочь затихающие голоса. Недолго было растеряться: куда идти – вперед? назад? Признаться, я опешил. Как это произошло? Ну да, тут лабиринт, но мы же были рядом, вместе. Черт! Ладонью прикрывая колышущийся язычок свечи, я поспешил назад, повторяя про себя – хоть мысли путались, – завет Князя из «Книги власти»:
– Вожак несет неугасимое пламя подвига – путь его не прерывается ни усталостью, ни разочарованием. У вожака нет страха, и слова «боюсь» нет в его словаре. Своим примером он кует волю стаи.
Растеряться тут было просто, потеряться – вряд ли. Сегодняшний день в распорядке обители, по всей видимости, считался гостевым, поэтому пусть я и не нашел товарищей, но через несколько минут погони за шелестом голосов и скачущими отблесками света пристроился к какой–то сборной группе паломников и любопытствующих визитеров, ведомых монашеского вида провожатым. Вергилий этот предусмотрительно укрылся от подземной стыни матросским бушлатом, черное сукно которого местами поседело от холодных прикосновений меловых стен. Паломников от досужих тоже легко можно было отличить в здешнем неверном свете по экипировке: первые, зная, куда идут, надели свитера и кофты, последние, подобно мне, явились в пещеры легкомысленно – едва не в майках.
По пути, пока я с заветом Князя на устах плутал в одиночестве, мне несколько раз встречались уводящие то вбок, то вбок и вниз, то вверх и вбок коридоры. Их укутывала махровая непроглядная тьма, и вид они имели давно нехоженый. Проходя мимо этих дыр, я чувствовал себя полумертвым – так зимой, бывает, ступая по узкой тропе между сугробов вдоль дома, на карнизе крыши которого наросли огромные сосульки, уже ощущаешь, что одна из них торчит из твоего темени. Казалось, в этих лазах можно исчезнуть навсегда – они немо взывали погрузиться в их мрак, манили, как все запретное и опасное, но я сдержался и, не уклоняясь, вышел к людям.
Пока группа возле одной из келий внимала рассказу гида о ее былом обитателе, замуровавшем себя здесь заживо и так, принимая пищу от братии через небольшое оконце, прожившем в келье, как в могиле, несколько праведных лет до самой своей кончины, я заинтересовался огоньком в ближайшем боковом коридоре, помаргивавшим из входа в какую–то клетушку. Там не было толпы, стало быть, кто–то пришел сюда сам либо уединился от стайки норных туристов для… черт знает для чего. Стараясь ступать неслышно, я прокрался по этому коридору мимо очередного, залитого черным холодом ответвления к мерцающему проему в монолите стены.
– …бабу, лысого или бороду можешь, если руки чешутся. Но остальных чтоб – ни–ни. И так чуть дело не сгубили. – Голос, звучавший приглушенно и вместе с тем густо, явно искаженный сводами подземелья, показался мне неопределенно знакомым. – Это живец же, чудила. Жерлицу на щуку ставил?
– По молодости было дело. – Второй голос, вытекавший из потаенной кельи, был сух и неприятен, как запах горящей урны.
– Ну так эти – плотвица на тройнике. Щука придет, живца – хвать и на крючок сядет. А из плотвицы только кишочки брызнут. Твое дело – смотреть, чтобы живец хвостом бил. На дохлого – кого возьмем?
– Не пойму я. Корысти черной в деле вашем вроде нет, а и жалости в вас, сострадания или милости какой – тоже не видать. Точно завод человечий у вас кончился: все, дальше некуда – гиря дό полу дошла. Думал про себя, что я уж на краю, одной ногой в бездне, а вы вона… Мне до вас еще на семи трамваях ехать.
– Не по твоему уму задача. Делай что велят, а о прочем голову не ломай. – Первый голос помолчал, потом зазвучал вновь. – Корысть, говоришь? Подрубить столько деньжат, чтобы купить себе недолгую и ненадежную благоустроенность? Но аскет, не имеющий страха перед миром, будет свободнее и выше тебя, сторожащего свое добро. Милосердие? Облегчение людских страданий? Но костлявая справляется с этим делом ловчее. И не без твоей помощи. Не так ли? К тому же боль и страдание ничего не оправдывают. И ничуть не способствуют тяге оставить темницу тела и устремиться в светлицу духа – ровно наоборот. Что там еще в человечьем заводе? Нестяжание, добровольное ограничение? Но счастье – это состояние, в котором не испытывается никакая нужда. Сознание же ограниченности, пусть и добровольной, будет точить тебя, заставляя думать о собственной неполноценности и сирости, а эта дума – главная язва, глодающая счастье человека. Такому вот планктону – алчущему, страдающему, сирому – тварь и явилась проповедать смерть и войну до полного одичания.
Читать дальше