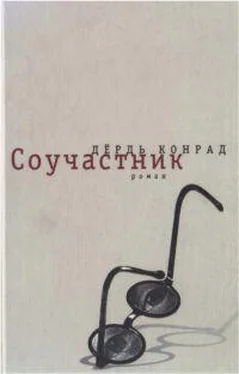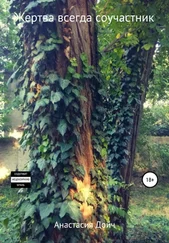5
Я мечтал быть профессиональным революционером, рупором некой мечты, чего-то такого, что больше, чем то, что я в данный момент делаю. Реальность — это наследие прошлого, начнем что-то абсолютно, непримиримо новое; мое чувство юмора — в зимней спячке. Насилие не вызывало во мне такого уж всепоглощающего отвращения: ведь наши лагеря для интернированных были лишь робкими ответами на лагеря смерти. Если я видел графа, который на паре своих оставшихся лошадей занимается извозом, его падение не шокировало меня — хотя бы уже потому, что так он казался мне ближе и милее. Коли уж мы собрались менять государственный механизм, давайте менять всю культуру. До сих пор мы были в центре Европы провинциальным театром, теперь стали экспериментальной студией; мир смотрит туда, где происходит что-то новое. Пускай у нас не будет собственных автомобилей — зато будет собственная история. Я не хотел смешивать свободу с банковским вкладом, утопию с супермаркетом.
Я говорил: мирового капиталистического движения быть не может, мировое коммунистическое — пожалуйста. Царство Божие можно построить и в исторической реальности. Коммунистические партии — монашеские ордена XX века. Буддист или мусульманин не станет христианином, коммунистом — сколько угодно. Профессиональный революционер тем могущественнее, чем преданнее он служит идее. Лучшую часть нашего человеческого «я» несет в себе коммунистическое государство, которое сегодня пока — национальное, завтра — всемирное, и столицей его будет Москва. Освободим наше мышление от мелочных национальных рамок! Давайте развивать в себе имперское самосознание! Атлантический мир должен нам покориться, ибо мы — решительнее и целеустремленнее, мы — превосходящая сила, которая грядет не только с идеями, но и с танками. Мы, коммунисты Центральной Европы, будем посредниками между Москвой и Западом. Мы повсеместно объединим экономику и политику, труд и частную жизнь; все, что существует в нескольких видах, мы сплавим в одно целое. Подавление — всего лишь средство, чтобы сделать идеи доходчивыми; пускай народ усвоит, что он не может хотеть иного, чем хотим мы; сначала, побитый, он отдастся нам в руки, потом, через нашу государственную власть, полюбит себя самого. Мы обещаем не изнеженность, не благополучие, а мистерию единого всемирного общества.
Мы взяли в свои руки всю власть, которая только попала нам в руки. Демократия наша была агрессивной; тогда, в 45-м, уступчивость котировалась очень низко. В наших глазах деление мира на богатых и бедных было незаконным: всего за один год мы ввели равенства больше, чем либеральный парламент — за полстолетия. В нашем учении не было указано, где следует остановиться: так почему бы после крупной промышленности не национализировать и мелкую, после больших отелей — и маленькие пивные? Государственный ресторан — мой, и когда я расплачиваюсь за ужин, деньги все равно остаются моими: ведь они идут в карман моего государства. Прежний правящий класс оказался слабым не только по отношению к фашистам, но и к нам; он не понимал своих интересов, а если понимал, то боялся их защищать, позволяя себя насиловать то немцам, то русским. В некоммунистической оппозиции тот, кто был левым, становился марионеткой в наших руках, а того, кто не хотел становиться марионеткой, мы клеймили как врага демократии. У буржуа первая же пощечина вызывает шок, а если к обещанию свободы добавить маленький подкуп, то он, пометавшись немного, продаст и свою партию, и своего бога, но охотнее всего будет писать коммунистическому государственному руководству доносы на нас, коммунистов. Когда мы перемалывали какую-ни-будь партию, находившуюся на правом фланге политического спектра, на правом фланге оказывалась следующая. Наконец все правые партии кончились, и теперь правый фланг был только у нас.
Не для того ли я всю жизнь занимался политикой, чтобы попасть за решетку? На автогонках или в военной игре подобраться к смерти как можно ближе — настоящее сексуальное наслаждение; то же самое относится и к тому виду спорта, название которому — власть. Я знал, что обыватель — раб своих привычек и потребностей, что будущее его — лишь продолжение прошлого; кем же мне стать, чтобы выйти из этого заколдованного круга? Коммунистом. Война закончилась, но борьба между новым и старым, между добром и злом продолжается. Обыватель — копит материальные ценности, революционер — борется; огромное количество людей, которые копят, представляется революционеру врагами, он презирает их, старается навредить им — и потому горд собой. Это — самая легкая часть дела; труднее быть влюбленным в партию. Напрягая воображение, он видит партию как множество кабинетов, как залы собраний, как в меру обаятельных функционеров. Партия, в конце концов, ведь не только чистая идея; из комитетов воображение бежит на площадь. На площади собираются сто тысяч человек, у моих ног — толпа, разбитая на квадраты, я говорю в микрофон, толпа скандирует здравицы. Власть доставляет наслаждение, в демократии наслаждения меньше: она любому разрешает перечить власти. Я любил массы — именно так, во множественном числе, — любил, как женщин: пускай они отдаются моей формирующей воле. Хорошо было воскресными утрами импровизировать, блистать игрой ума в обшарпанной радиостудии; шесть дней подряд страна трудится, на седьмой — садится вокруг меня, я насыщаю ее: меню составлено мною, в разумной пропорции, из музыки и пропаганды. У тех, кто меня послушает хотя бы немного, я застряну в мозгах надолго, даже если они и не приемлют ни одного моего слова. Партия, она какая есть, такая есть, она ведь, в конце концов, состоит из людей; но коммунизм — образ наивысшего добра, образ всего самого лучшего, вписанный в историческое будущее; еще десять лет, еще двадцать лет, и оно, это будущее, наступит. Я же — толмач коммунизма; коммунизма, а не Центрального Комитета; но если меня исключат оттуда, то отберут и микрофон, и я не смогу быть больше ничьим толмачом. Так что парт-дисциплине я, насколько это было в моих силах, подчинялся. Конкретная наша реальность была еще беднее, чем до войны, и будущее состояло из слов. Но в те времена казалось, что слово и есть суть человека: кто скажет хорошее, тот хорош, кто скажет плохое, тот плох. Я считал, что я говорю хорошее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу