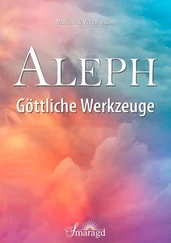Через несколько мгновений Иоаким уже стоял перед его дверью на третьем этаже и никак не решался нажать кнопку звонка. Он рассматривал латунную табличку с именем «Роберт Броннен», слегка облупившуюся штукатурку на лестничной площадке… откуда-то снизу поднимался кухонный чад, в нише слабо светилась красивая лампа в стиле югенд. Где-то работал телевизор, женский голос визгливо пролаял что-то в телефон, и он вновь подивился, что понимает каждое слово, хотя так и не мог вспомнить, говорил ли когда-нибудь отец с ним по-немецки.
Это был настоящий музей — музей долгой жизни, хотя и без поясняющих табличек. Стены были увешаны картинами всех размеров, повсюду громоздились вороха книг по искусству. Осадочные породы в виде мебели разных эпох двадцатого века расположились на полу без всякой видимой системы: шифоньеры, бюро, красивые столы и кресла. Не было ни одной свободной поверхности — всё было заставлено пепельницами, курительными и письменными приборами, газетными вырезками… Две ступеньки вели дальше, в другие комнаты, вернее, отделения частной экспозиции, посвящённой долгой и бурной жизни.
На уровне глаз была привинчена витиеватая латунная табличка с надписью готическим шрифтом «Кунсткамера «Адлерсфельд»». Рядом в застеклённой раме висела десятифунтовая ассигнация, о происхождении которой Иоаким мог только догадываться. На столе — фотографии в рамках. Две блондинки позируют на фоне чёртова колеса. Ещё одно фото — чернокожий мужчина в военной форме в уличном кафе. Снимок раскрашен вручную, значит, сделан где-то в пятидесятые годы. А в третьей рамке была не фотография, а пожелтевшая газетная вырезка, уводившая ещё дальше, в довоенное время: парень в борцовском трико под рубрикой: «Митци — новый чемпион в лёгком весе».
Ещё один снимок — опять эти две блондинки, похоже, что сёстры. Они где-то в лодочной гавани, а между ними стоит загорелый юноша, они обнимают его за плечи. На заднем плане — мачты яхт. Лето. Все почему-то преувеличенно серьёзны, словно фотограф запечатлел их в момент глубокого раздумья. Присмотревшись, Иоаким понял, что этот юноша — не кто иной, как его отец… Никогда раньше Иоаким не видел Виктора таким невинно-молодым… невероятно, отец когда-то тоже был мальчиком.
— Мы с твоим отцом на экскурсии с нашими подругами, — сказал Георг Хаман по-шведски, с акцентом, напомнившим Иоакиму Виктора. — Тридцать девятый год. Мы, помню, взяли напрокат яхту на Ванзее. Меня на фото нет — я снимал.
— А девушки кто?
— Мы называли их сёстры Ковальски… Хотя они вообще-то сёстрами не были, но это отдельная история.
На противоположной стене висел групповой портрет маслом — те же блондинки и тот же темнокожий военный, на этот раз в гражданской одежде. Художник сотворил что-то непонятное — было ощущение, что от картины исходит волшебный, почти неземной свет. Живопись реалистична до малейшей детали и в то же время загадочно пуантилистична, цвета дробятся и плывут, как во сне.
— Американский солдат Вильсон. Его уже нет в живых, как и сестёр Ковальски. Теперь моё общество составляют исключительно мёртвые… Это работа твоего отца.
— Значит, папа умел не только фальсифицировать?
— Твой отец был великий художник. В других обстоятельствах… если бы он не был так беден и не родился со своей ориентацией в неправильное время, он бы, без сомнения, стал величайшим из современников. Это же, как ты знаешь, вопрос интерпретации…
А на торцовой стене висели знаменитые, подлинные, виртуозные кунцельманновские подделки; так, во всяком случае, решил Иоаким. На картине в изумительно имитированном барочном стиле был изображён ангел, диктующий что-то молодому человеку с пергаментным свитком в руке. Сюжет явно гомоэротичен: ангел, очень красивый мальчик, словно бы проверяет молодого человека на стойкость.
— Караваджо. Первая версия «Матфея и ангела». Когда-то висела в музее Карла Фридриха… Виктор был влюблён в эту работу, но она погибла во время войны. Он написал её по памяти, по-моему, в середине шестидесятых… Картина, разумеется, не предназначалась для продажи…
Рядом висело изображение уродливой обезьянки, а под ним, полуприкрытая спинкой кресла, ещё одна картина — всадник на вставшей на дыбы лошади.
— Мартышка — это Эренштраль, а насчёт всадника Виктор так и не мог определить — его это работа или Караваджо. Ему это было не так просто, как ты понимаешь…
Старик доброжелательно улыбнулся и надел очки, словно бы хотел лучше разглядеть собеседника.
Читать дальше






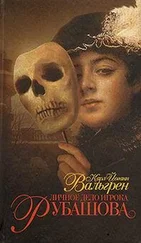

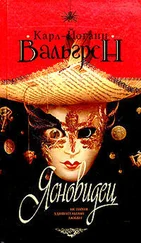

![Анна Вальгрен - Наши дети спят всю ночь [litres]](/books/406453/anna-valgren-nashi-deti-spyat-vsyu-noch-litres-thumb.webp)