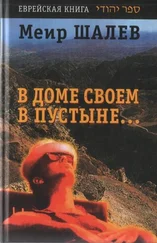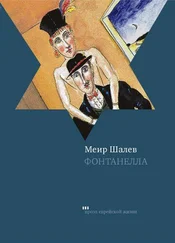Когда моей сестре исполнилось два или три года, мы начали ездить в Нагалаль поездом. Из Иерусалима в Лод, из Лода в Хайфу, оттуда автобусом до перекрестка Нагалаль, а потом пешком или на попутной телеге.
Эти поездки не были такими волнующими, как мои прежние путешествия с Мотькой Хабинским на мошавном молоковозе, или такими долгими, как путешествие свипера через моря-океаны, но и в них было достаточно переживаний и ярких впечатлений. Отец, всегда более беспокойный, чем мать, неизменно настаивал, чтобы мы ехали на станцию на такси, и я помню, как они с мамой вполголоса спорили о «транжирстве» и «излишествах». А потом он обязательно провожал нас на станцию, чтобы помочь маме подняться в вагон и попрощаться с нами, как тогда прощались перед дальней поездкой.
Железнодорожная станция была на другом конце Иерусалима. Мы выезжали из дому на рассвете, ехали по незнакомым кварталам, отец покупал билеты, и мы в три этапа поднимались в вагон по вертикальным ступеням. Первой подымалась мама с сестрой на руках, торопясь занять места с левой стороны вагона. Потом поднимался отец с чемоданом в руке, а уже за ним и я, с его помощью. Отец располагал чемодан на полке над нашими сиденьями и внимательно изучал лица наших будущих попутчиков — нет ли среди них «неприятных людей». Потом он с виноватой улыбкой и беспокойством шептал что-то маме, целовал ее и нас и, спустившись на платформу, долго махал нам оттуда рукой, а мы махали ему из окна.
Но вот раздавался свисток начальника станции, паровоз негромко фыркал, потом вздыхал, трогался с места, и уже через несколько минут наше окно становилось рамкой совершенно незнакомого ландшафта, как будто мы пересекли невидимую границу и едем уже по совсем другой стране.
Цепочку вагонов в поездах моего детства тянули паровозы, и я отчетливо помню их задумчивый протяжный свист и тот сильный протестующий скрежет, который извлекали из металлических колес крутые изгибы рельсов. Никто тогда не знал, что в Америке уже изобрели нечто под названием «кондиционер», и поэтому все открывали окна, и ветер врывался в вагон, неся с собой частицы копоти, летевшей из паровозной трубы.
Сначала мы спускались на юг, вдоль речки Рефаим, знакомой мне по рассказам отца о царе Давиде, а потом поворачивали вдоль речки Сорек, знакомой по его же рассказам о богатыре Самсоне. Вдоль Рефаим проходила тогда граница между Израилем и Иорданским королевством. По другую сторону речки арабские крестьяне обрабатывали свои маленькие аккуратные огороды, поливая овощи сточными водами, стекавшими из Иерусалима в долину речушки.
Поезд шел медленно, и я радовался, что мы сидим по левую сторону, потому что она была обращена к границе. Мы махали арабам, и некоторые из них тоже махали нам вслед. Колея шла тогда прямо по пограничной линии. Каждое утро по ней проезжал маленький поезд — паровоз и одинокий вагон с несколькими саперами, проверявшими, не подложены ли где-нибудь мины или бомбы. А в нашем поезде, в первом и в последнем вагонах, сидели вооруженные полицейские из пограничной охраны. Но при всем том в пассажирских поездах всегда есть что-то, что вызывает дружеские чувства, а кроме того, мама обязательно напоминала нам в этом месте дороги:
— Они такие же крестьяне, как мы, помашите им рукой.
Приходил разносчик из буфета, неся свой товар в двух больших ведрах, и громким голосом объявлял: «Санвиши, напитки, жвачка, пирожки…» — но мама не соглашалась ничего покупать.
— У нас нет денег на это, — объясняла она без затей. — И вообще, наши сэндвичи намного лучше, чем его «санвиши».
Бутерброды, которые она готовила и брала с собой, были из черного хлеба с маргарином, яичницей, ломтиками помидора и листочками петрушки, а иногда также с кусочками засоленных ею огурцов. Она объяснила нам один важный принцип, которым я руководствуюсь и сегодня: бутерброд нельзя солить заранее.
— Берут немного соли из дому и солят сразу перед едой, а иначе соль превратит помидор в тряпку.
Мы брали с собой немного соли, завернутой в клочок газеты, и в дороге солили наши сэндвичи и с аппетитом их съедали, запивая малиновым соком из бутылочек, которые сестра приносила из своего садика, а я — из школы.
В Хартуве мы выбирались наконец из гор на равнину. Горизонт сразу расширялся, холмистое становилось плоским. Поезд опять свистел и начинал ползти быстрее. Колеса переставали скрежетать, и их стук становился частым и ритмичным. Несмотря на правила, мама позволяла мне немного высунуть из окна голову и руки, и ветер рисовал улыбки на моей физиономии. Скорость — я думаю, она не превышала восьмидесяти или даже семидесяти километров в час — кружила мне голову.
Читать дальше