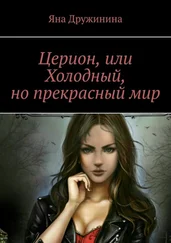Мы чуть не уписались со смеху.
Он разрезал торт и каждой раздал по кусочку, а последний оставил себе. Я держала вишню у его рта и подначивала ее сорвать. Он шел за мной по улице. Я такая в купальнике. Наверное, со стороны мы с Корри казались сладкой парочкой, оба перемазаны вишневым соком.
Не верьте никому, кто говорит, что панель — сплошь грязь, и дерьмо, и стыдные болячки. Так и есть, кто спорит, иногда, ну конечно, но иногда и здесь бывает хорошо. Иногда просто держишь вишенку перед лицом у мужика. Иногда надо позволять это себе, чтоб не разучиться улыбаться.
Когда Корри смеялся, все его лицо шло морщинками.
* * *
— Ну-ка, Корри, скажи: дазабейнаэтаващще.
— Дазабейнаэтовообще.
— Нет-нет-нет, ты скажи: дазабейнаэтаващще!
— Дазабейнаетовоопще.
— Да уж, чувак, забей на эта ваще.
— О’кей, Тилли, — говорит он, — я забью на эта, ваще.
* * *
Если б с кем из белых спать, то с Корриганом. Без брёха. Он говорил мне, бывало, мол, куда ему до меня. Говорил, что как бы ни старался, все курам на смех и обсвистать даже нечего. Говорил, что я вся красотка, не чета ему. Корриган зашибись чувак. Я б вышла за него. Так бы и слушала этот его забавный акцент. Я увезла бы его подальше из города и приготовила ему целый пир, из первоклассной говядины и капусты, и он бы у меня решил, что остался единственным белым на свете. Я бы в ушко целовала его, дай только шанс. Сколько ни есть во мне любви, всю бы ему слила. Ему и тому дядечке из «Шери-Нидерланд». Оба годные.
Мы ему набивали мусорное ведро по семь, по восемь, по девять раз на дню. Паскудство. Даже Энджи считала это паскудным, а уж она-то паскудничала за всех, она и тампоны свои там оставляла. Я ж говорю, паскудство. Подумать только, Корри видел всю эту грязь и не говнился ни разу, просто шел выносить ведро и возвращался домой. Священник! Монах! Колокольные звоны!
А эти его сандалики! Боже-ты-мой! Издалека было слыхать, как он шлепает по улице.
* * *
Он сказал мне однажды, что по большей части люди поминают любовь, чтоб всем доложить про свою голодуху. Только он по-другому как-то выразился, вроде чтобы возвеличить свои аппетиты.
Так и сказал, с этим своим восхитительным акцентом. Я бы уплела все, что говорил Корри, я бы проглотила все его словечки. Он говорил: «Вот твой кофе, Тилли», и я думала, что не слыхала ничего милее. Коленки подгибались. Белая моя музыка.
* * *
Джаззлин все повторяла: любит его, как шоколадки.
* * *
Уже много времени прошло с тех пор, как меня навестила та девица Лара, — может, десять дней, а может, и все тринадцать. Она сказала, что приведет моих крошек. Пообещала. Вроде с годами привыкаешь никому не верить, но… Люди вечно обещают. Даже Корри разбрасывал обещания. Подвесной мост и прочее дерьмо.
* * *
С Корри как-то была одна смешная история, ввек не забуду. Единственный раз он притащил с собой клиента, специально для нас. Приезжает как-то посреди ночи, открывает заднюю дверцу фургона и выкатывает старичка в кресле-каталке. И Корри весь аж дергается. Ну, то есть, он же священник или как там — и вдруг тащит к нам клиента! Все оглядывался по сторонам. Жутко переживал. Совестью мучился, что ли. Я говорю: «Привет, папуля!» — и у него лицо делается белое, и я уж молчу в тряпочку, ничего не говорю. Корри кашляет в кулак и все такое. Короче, выясняется: у старика сегодня день рождения, вот он все ныл да ныл, чтобы Корри вывез его куда-нибудь. Говорит, он не бывал с женщиной со времен Великой депрессии, а это ж было лет восемьсот тому назад. И старик тот еще хлыщ, обзывает Корри всеми словами и ругает на чем свет стоит. Только с Корри вся ругань как с гуся вода. Пожимает плечами, поворачивает ручку тормоза на коляске и оставляет Мафусаила сидеть прямо на тротуаре.
— Не мое это дело, но Альби желает воспользоваться вашими услугами.
— Я ж просил не говорить им мое имя! — волнуется старикан.
— Заткнись, — бросает ему Корри и уходит.
Потом оборачивается к нам еще разок, смотрит на Энджи и говорит:
— Пожалуйста, не отбирай у него все деньги.
— Да чтоб я? Обчистила калеку? — таращится Энджи, глаза на мокром месте и прочее дерьмо.
А Корри только поднимает взгляд к небесам и качает головой.
— Слово дай, — говорит он, хлопает дверцей своего коричневого фургона и сидит там, внутри. Ждет, значит.
Потом врубает радио, да погромче.
Мы переходим к делу. Оказывается, у нашего Мафусаила денег хватит, чтобы все мы какое-то время жили припеваючи. Наверное, накопил за много лет. Мы решаем устроить ему вечеринку. Так что заталкиваем коляску в кузов грузовичка, в котором возят овощи-фрукты, проверяем на ней тормоза, снимаем с себя шмотки и танцуем. Трясем своими сокровищами прямо перед ним. Тремся об него вверх-вниз. Джаззлин скачет по овощным ящикам. И мы все, голые, играем в «Лови!» кусками латука и помидорами. Уморительно.
Читать дальше




![Нацуми Акацуки - Да будет благословен этот прекрасный мир! [ЛП]](/books/401548/nacumi-akacuki-da-budet-blagosloven-etot-prekrasny-thumb.webp)
![Генри Миллер - Этот прекрасный мир [сборник]](/books/416436/genri-miller-etot-prekrasnyj-mir-sbornik-thumb.webp)