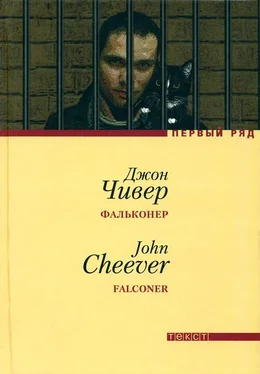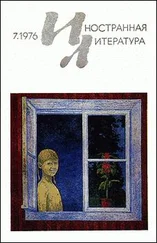Если в мире останется песня одна,
И будет грустной она —
Я не стану вам петь, не просите.
Если в мире останется песня одна,
И будет грустной она —
Я не стану вам петь, не просите.
Я не стану вам петь ни про боль, ни про скорбь,
Я не стану вам петь о войне.
Я не стану вам петь ни про плач, ни про ложь,
Ни про подлый выстрел во тьме.
Я не стану вам петь про пожары и страх,
И про горечь утраты не стану.
Если грустная песня осталась одна,
Лучше петь я совсем перестану.
Снова раздетые почти донага, они ждали, когда получат новую форму. По очереди подходили к одному из окошек с табличками: EXTRA LARGE, LARGE, MEDIUM, SMALL, — снимали старую серую робу и бросали ее в корзину. Новая форма была грязно-зеленого цвета, не сочного цвета зеленой листвы, подумал Фаррагат, и не ярко-зеленого цвета Троицы и длинного лета, а сероватого оттенка живых мертвецов. Только Фаррагат пропел несколько тактов «Зеленых рукавов», и только Рогоносец улыбнулся. Смена формы считалась делом серьезным. Скептицизм и сарказм казались неуместными и достойными презрения, ведь именно за этот серо-зеленый цвет люди в Амане часами лежали голые в грязи и собственной рвоте, за него они умирали. Да, это факт. После революции дисциплина ослабла, почту перестали проверять, но их труд по-прежнему стоил полпачки сигарет в день, и эта смена формы стала самым серьезным результатом мятежа в «Стене». Идиотов не было — никто не говорил: «Наши братья погибли за эту форму», — и все понимали, какие деньги нужны, чтобы заново одеть всех заключенных, и зачем это нужно кучке людей, которые могли бы сейчас нырять с аквалангом на Малых Антильских островах, развлекаться с проститутками на яхтах и все такое прочее. Да, смена цвета была делом серьезным.
Новая форма идеально вписывалась в атмосферу амнистии, которая воцарилась в Фальконере после подавления восстания в «Стене». Маршек снова подвесил цветочные горшки на проволоке, которую украл Фаррагат, и никто не спросил про заточенную клавишу от пишущей машинки. Когда раздали новую форму, многие захотели ее перешить. Почти все требовали, чтобы одежду сразу же подогнали под них. Но зеленые нитки привезли только через четыре дня и весь запас распродали за час, но Бампо и Теннис — оба умели шить — раздобыли одну катушку и целую неделю перешивали робы.
— Тук-тук-тук, — сказал Рогоносец.
Фаррагат разрешил ему войти, хотя всегда его недолюбливал. Но он устал от телевизора и хотел услышать живой человеческий голос, с кем-то поговорить. Лучше бы не с Рогоносцем, но выбора не было. Рогоносец попросил, чтобы его штаны сделали как можно уже, но, судя по всему, ничего хорошего из этого не вышло. Сзади они давили, точно седло гоночного велосипеда, а спереди впивались так, что Рогоносец морщился, когда садился. «Зря старался, красоты все равно не получилось», — со злостью подумал Фаррагат; впрочем, он всегда думал о Рогоносце с некоторой злостью. Рогоносец уселся, собираясь снова рассказывать о жене. Фаррагату пришло в голову, что у него невероятно раздутое самолюбие. Готовясь к очередному монологу, он словно становился больше и больше — буквально увеличивался в размерах, как показалось Фаррагату. Он представил, как Рогоносец, раздуваясь, сбросит со стола книгу Декарта, оттолкнет стол к решетке, вывернет из пола унитаз и разломает койку, на которой лежит Фаррагат. Он знал: то, что расскажет Рогоносец, будет омерзительно, но понятия не имел, как относиться к такой мерзости. Существование всей этой грязи было неоспоримо и нерушимо, однако свет, который проливал рассказ на все прочее, не соответствовал самой природе рассказа. Рогоносец заявил, что у него куча новостей, но изложенные им факты только запутали Фаррагата, ввергли его в еще большие сомнения и отчаяние. Но он подумал, что все это — черты его характера, а значит, их надо пестовать. В конце концов, суетливость и бессмысленный оптимизм достойны лишь презрения. Поэтому он не стал возмущаться, когда Рогоносец откашлялся и начал:
— Если б ты спросил меня, что я думаю о браке, я бы сказал: помни, что секс — не главное. Я женился на ней потому, что она здорово трахалась… ну… мы подходили друг другу по размеру, она вовремя кончала, и долгие годы все было о’кей. Но когда она начала спать со всеми подряд, я не знал, что делать. Священники ничего не могли посоветовать, а юристы говорили, что нужно подать на развод. А что тогда делать с детьми? Они не хотели, чтобы я их бросил, даже когда все узнали про мать. Она сама мне об этом говорила. Я возмущался, что она спит со всеми без разбора, а она прочитала мне целую лекцию о том, как тяжело ей приходится. Говорила про одиночество шлюх и их опасную жизнь. Говорила, что тут требуется мужество. Честное слово! Так и сказала. Мол, по фильмам и книжкам можно подумать, что это не жизнь, а рай, но на самом деле с какими только трудностями ей не приходилось сталкиваться. Рассказала, как один раз, когда я уехал по делам, она пошла в бар, а потом в ресторан с друзьями. У нас в Северной Дакоте правило: едят в одном месте, пьют — в другом. Так вот, они выпили и пошли в ресторан, а там у барной стойки она заметила дивного красавца. Посмотрела на него эдаким соблазняющим взглядом, и он ответил ей тем же. Знаешь, какой у нее бывает взгляд?
Читать дальше