А более всего, ну, это ясно, — о том, что она шептала тебе ночью перед возвращением домой, — эта фраза постоянно сверлит меня своим внутренним пораженческим мотивом (как строчка из траурной песни): «Когда папа спросит, скажем, что было чудесно. Когда папа спросит, скажем, что было чудесно…»
И я вдруг понял кое-что, о чём до сих пор не думал: как несчастливы были мои родители из-за меня, наверное, не меньше, чем я… Мне никогда не приходило в голову, какими растерянными и униженными они были из-за меня. Как ты говоришь: «Как ужасно растить своего собственного ребёнка-сироту».
Мирьям, ты как-то рассказала о своей маленькой игре — каждый день ты вынимаешь наугад одно моё письмо из пакета и читаешь его, чтобы определить, что изменилось в нас с тобой с предыдущего раза, когда ты его читала.
Поэтому я хочу отправить тебе продолжение в отдельном письме.
Я.
21 сентября
Ты ещё здесь?
Не знаю, как я отважился. У меня всё тело дрожало — ведь эта смелость уже сама по себе была предательством: как мог ребёнок осмелиться преодолеть силу тяготения этойсемьи и дойти до такого! Но самым поразительным предательством было то, что этот двенадцатилетний сморчок позволил себе испытать такое сильное чувство: страсть. Это называется страстью. Огонь страсти сжигает нас изнутри!
Да какая там страсть, кто мог испытывать страсть в те минуты? Разве что ту единственную, настоящую страсть, которую я знаю (страсть вины, которая постоянно ищет свободный грех, чтобы спариться с ним). Честное слово, я мог бы написать целую книгу о позах этих двоих, обо всех возможных вариантах, — естественное продолжение «Семейной поваренной книги»… Где ты, Шай?!
Там стояли мужчины, молодые и старые, которые показались мне персонажами боевика, — из тех, чьи огромные вырезанные из картона фигуры украшают крышу кинотеатра «Оргиль». Я прошёл между ними, опустив глаза, с торжественным, леденящим душу ужасом приговорённого к смертной казни. Я подумал, что среди них нет ни одного ашкеназа, и что тут меня и похоронят. Кто-то дал мне подзатыльник и пошутил, что сообщит в мою ешиву в Меа Шеарим [27] Меа Шеарим — район Иерусалима, населённый ультра религиозными евреями.
. Заметь, Мирьям, это тот самый мальчик, которого ты хотела одарить взглядом и уверить его в том, что он красивый мальчик… Переулок заканчивался большим двором. Мужчины, опустив голову, торопливо входили и выходили. В классе мы сдавленным шёпотом фантазировали на тему, что там происходит. Эли Бен Зикри был единственным, кто решился однажды пробежать вдоль этого переулка, и мы считали его героем Израиля. Я вошёл во двор. В воздухе стоял запах мочи и канализации, и с каждым вдохом я чувствовал себя всё более замаранным. Парнишка не намного старше меня подтолкнул меня к одной из стен. У стены стояла большая квадратная женщина в очень короткой чёрной юбке, которая блестела как кожаная. Я помню этот блеск, её обнажённые очень толстые ляжки, но лица её я не помню — я не смел на неё взглянуть, представь себе, до самого конца я так и не решился поднять голову и посмотреть на неё.
Я спросил: «Сколько?» — Она ответила: «Тридцать», — и я, как парализованный, протянул ей все купюры, зажатые в моём кулаке, и «услышал», как мой отец ужасается тому, какой из меня скверный коммерсант. Мирьям, ты можешь пропустить следующую часть этой истории, но я обязан тебе её рассказать. Я хочу очиститься. Вокруг были высокие дома, стены, покрытые большими пятнами смолы, длинными смоляными языками, а в тёмном дворе я помню груды старых досок, кучи мусора и красные огоньки сигарет. Из каждого угла доносились шёпот, вздохи, равнодушные голоса проституток, болтавших друг с другом, не прерывая своего занятия. Помню, как «эта» резким движением поддёрнула вверх юбку, а я, в то время ещё считавший своим высшим достижением умение расстёгивать лифчик одной рукой — лифчик моей сестры Авивы, натянутый для тренировки на старое кресло, — я вдруг увидел перед собой это самое. Мне стало дурно и холодно, я почувствовал, как душа моя сжимается, будто навсегда покидая меня, и я подумал: «Ну вот и всё, дальше падать некуда».
(Нет, я был ещё б о льшим трагиком! Помню, как я произнёс про себя: «Теперь я на самом деле выкинут из человеческого общества…»)
Она спросила, почему я не снимаю штаны, и протянула свою мощную ладонь к моему маленькому члену, который в ужасе пытался спастись в глубине трусов. Она дёргала и сильно встряхивала его, она тёрла, вертела и сжимала его своей жёсткой неприятной рукой, а я, печально покинув своё тело, взирал на себя сверху и думал — тебя уже никогда не исправить.
Читать дальше




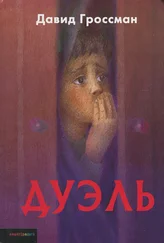

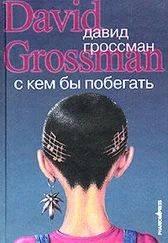

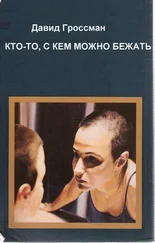

![Давид Гроссман - Будь ножом моим [litres]](/books/432501/david-grossman-bud-nozhom-moim-litres-thumb.webp)
