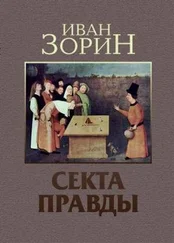Он дёрнулся, будто от щекотки.
— Банальная история, — клевал носом философ. — Банальная история…
Полковник достал с антресолей старенький, почти игрушечный пистолет, обёрнутый ветошью. Опрокинув коробку из-под крупы, рассыпал по столу патроны, набил магазин, остальные, чтобы не катались, прикрыл газетой. Потом примерил отутюженный, висевший под клеенчатым балдахином мундир, наглухо застегнув пуговицы. «Как на парад», — не удержался Витька. Философ заглянул в его простодушное мальчишеское лицо, и в груди у него разлилось тепло:
— Не стоит втравливать парня.
— Только покажет, — мотнул головой полковник, заглядывая в ствол.
День пролетел, а ночью у философа шла горлом кровь.
— Пётр Прокопьевич, вам убивать приходилось?
— Нет.
— Но вы же военный…
— Штабная крыса.
В свете матовой лампы они были похожи на инопланетян.
— А, думаете, мы способны?
Голос философа звучал пусто и ровно.
— Спустить курок? Это не ножом ударить, — полковник громко высморкался. — Хоть попробуем, прежде чем земля череп выест…
Утро предвещало быть холодным. Глухо барабанил дождь, за ставнями злобился ветер.
— А знаете… — Ивану Ильичу навернулась слеза, он смахнул её, притворяясь, что поправляет волосы. — Мне казалось, я предназначен для большего. Думал стать вторым Кантом…
Он уставился на тонкие запястья, на когда-то холёные ногти.
— Что делать, мир не мы придумали…
— И бездну над нами, и нравственный закон внутри…
— Чепуха всё это.
— Что?
— Нравственный закон. Я с рождения приказам подчинялся, а вы за место на кафедре тряслись… Интриговали?
— Интриговал.
— Вот видите… Только это для живых…
У Витьки заломило в висках. Он стал принимать их за сумасшедших.
— А вы верите? — вдруг тихо спросил Иван Ильич.
— Верю, — также тихо ответил полковник.
— А как же «не убий»?
— Вы что же, и там допускаете земную мораль?
В тишине неотвратимо двигалась стрелка будильника.
— Пётр Прокопьевич… — философ запнулся. — Я вчера уговорил вас… но… — он внезапно разрыдался, сотрясаясь худыми плечами, — сам я не смогу…
— Я знаю.
— Это не из-за…
Не договорив, он показал платок в запёкшейся крови.
— Знаю.
— И презираете?
— Помилуйте… Там каждый за себя…
Чахлый дождь, мшистое небо. Проплешинами темнеет снег, по канавам хохлятся воробьи. Хочется скомкать это мглистое утро, хочется дожить до весны!
Полковника шатало. Он то и дело замирал, прислонившись к фонарю. Витьке казалось, что они никогда не дойдут, а когда оказались на нужной улице, у него свело скулы. Он ткнул пальцем в номер дома, полковник шагнул в подъезд.
Бурый кирпич, засиженный слизняком. Витька забился под лестницу, пялясь на ветхую паутину, на разводы штукатурки с прочерченными углём любовными признаниями. «Врёшь, — думал он, — никто никого не любит».
А из-за двери отчётливо доносились голоса.
— Я за него отвечу…
Полковник тяжело дышал.
— Заступник! — рассмеялся один.
— Ответь сначала за свои штаны! — поддержал другой.
Но, видно, что-то заподозрили, предложили стул.
«Сейчас будут морочить», — догадался Витька. Засопели, обдавая молчанием, точно кипятком.
— Давай разберёмся… Витёк под нами ходит, нам и спрос…
Полковник не возразил. И это стало первой ошибкой.
— Он задолжал. Посуди сам, разве это справедливо?
Витька знал эти байки о лукоморье — смущают словами, как глупую рыбу, ловят на блесну.
— Но к чему жестокость, он ещё молод…
У полковника запершило в горле. Он взывал к человечности, и это было второй ошибкой. «Не усовестишь!» — думал Витька. Он был как в бреду. И тут его пронзило: сейчас полковника свалят ударом кулака и будут бить, даже мёртвого! Он с криком шагнул за дверь, на ходу сунул руку в карман полковника. Комната была маленькой, его пули ложились в цель, и он не заметил, как ответная сразила полковника. Выплёскивая бешенство, он стрелял и стрелял — за себя, полковника, преданного отца, за безалаберную, неустроенную жизнь.
Когда Витька вернулся, философ был уже мёртв. Он лежал, вытянувшись на постели во весь свой огромный рост, и от него, как и при жизни, веяло какой-то детской наивностью. Он там, подумал Витька, где уже не помогает раскаяние. Потом медленно прислонил дуло к виску и выстрелил.

Я снова проснулся Иваном Злобиным, в квартире, где провёл детство. Тот же комод с дребезжащими стёклами, те же настенные часы для слепых, которые днём отбивают на двенадцать раз больше, чем ночью, так что вечера сопровождаются их непрерывным боем. Возраст ставит меня перед выбором — показывать седую бороду или дряблый подбородок, и на рассвете, когда бессонница становится невыносимой, меня преследуют воспоминания. Вот звенит последний звонок, и одноклассники, многие из которых живут теперь только на фото, вышли из школьной двери, за которой кажется, что всё впереди, тогда как всё уже позади. Улицы вокруг перестроили, деревянные бараки растоптаны небоскрёбами, проходные дворы стёрты людными площадями, на которых легко потеряться. Кругом чужие лица, и я будто за тридевять земель! А помнится, была весна, в ручьях блестело солнце, из подъезда, перепрыгивая через ступеньки, выходил мальчик с зашитыми, чтобы не держать в них руки, карманами, с тяжёлым портфелем и улыбкой в пол-улицы. Его будни заполняла школа, а воскресенья — «англичанка» на дому, строгая дама с ненавистными формами временных глаголов. «Прошедшее совершённое», — едва сдерживая зевок, повторяет он за ней, не подозревая, что это время обойдёт его стороной, что очень скоро у него будет всё прошедшее и ничего совершённого.
Читать дальше