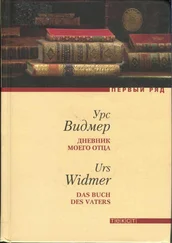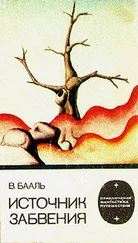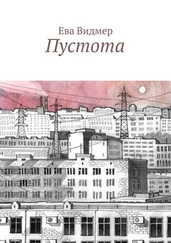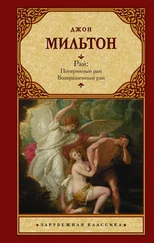Урс Видмер - Рай забвения
Здесь есть возможность читать онлайн «Урс Видмер - Рай забвения» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Год выпуска: 1998, Издательство: Иностранная литература, Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рай забвения
- Автор:
- Издательство:Иностранная литература
- Жанр:
- Год:1998
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рай забвения: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рай забвения»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рай забвения — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рай забвения», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Ты знаешь, что такое альпийская роза? — спросил он. Я отрицательно покачал головой.
— А ты слышал, как я пою?
— Вот уж чего не слышал, того не слышал!
— Так я же у себя в голове пел! — обрадовался он.
Он побежал по высокой траве, гнувшейся под порывами берегового бриза, — нет, он гнал перед собой волны моря, поднимая пену, как дельфин. И по-прежнему, кстати, двигался по своей спирали. Вот почему — а я-то, дурак!.. — он таскал меня за собой по горам. Другие бы, увидев, как он кинулся с кручи, сразу бы сбавили темп и прежде всего посмотрели, куда его несет. Я попробовал сделать так, когда он был в воде и махал мне, однако тут же промок и запутался в каких-то водорослях. Еле вынырнул, хватая ртом воздух. Поверхность воды блестела черной нефтью. А он скользил навстречу солнцу, оставляя за собой небесно-голубую спираль. И действительно в обнимку с дельфином, общаясь с ним на его чирикающем языке. Под конец — только крохотный силуэт. Если бы я потом не встретил его в театре, где ставил «Смерть Дантона», то, наверное, забыл бы о нем. Премьера уже началась, и в зрительный зал я вошел с небрежностью фаталиста, знающего, что теперь от него уже решительно ничего не зависит. Видел лишь ноги своих актеров, белые лосины Дантона и босые ступни какой-то женщины. Марии, хоть она и из другой оперы. Старик — я видел его со спины — свешивался вниз с ложи просцениума в окружении двух дам, тоже смотревших вниз, причем одна из них тоже была нагишом. Он сделал глоток из коричневого пузырька с рыбьим жиром. Вдруг та из дам, которая была нагишом, перескочила через парапет и с шумом рухнула куда-то далеко вниз. Я в ужасе рванулся вперед, на ее место, и заглянул в яму, где неподвижно лежала на спине нагая, а старик рядом со мной, вытянув длинную руку с бесконечным пальцем, коснулся ее соска — и, смотри-ка, она зашевелилась! Он взглянул на меня с какой-то хитринкой.
— Скажи, ты Бог? — обратился я к старику.
Однако прежде чем я дождался ответа, он уже умчался — старый гном, под руку с одетой, — и я увидел, как оба, точно психи, съезжают с горки и исчезают в глубине театральных кулис. Потом спектакль как-то добрался до конца и завершился смертью Дантона. Оглушительные аплодисменты. Как же я теперь доберусь домой один? Я долго пробирался ощупью сквозь какое-то голубое ничто — наверное, небо. Иногда самолеты. Один раз помахали дети из окон. Я уже привык ходить по облакам — это так же странно, как ходить по батуту. Куда же теперь? Все направления выглядят одинаково. Лишь в одной стороне — грозовой фронт и молнии, летящие вниз. Ветром меня понесло туда, и очередной разряд сбросил меня на землю. Промоченный дождем, я лежал посреди камней. Какой-то пес дергал меня, перетаскивая то туда, то сюда. Но голос его хозяина уже приближался, одышливый; это был старик. Он выглядел как античный пастух, и был им, и нес меня на руках. Сидя среди своих овец, он растирал меня, пока я не высох; это было место, где позже построят Дельфы. Произрастали колючки, пахло лавандой, шуршали ящерицы. Кругом жили духи — Оракул-то еще не возвели, и им не надо было прятаться. Никто не приходил за ответами на вопросы. Еще не было того знания, которого сегодня уже нет. Любое открытие вызывало восторг. Я разглядывал жука, блестевшего, как зеленое золото. Остальные — нимфы, гномы — тоже смотрели завороженно. Впрочем, нас скоро отвлекли еще не виданные цветы и новые сверкающие камешки. Небо тоже было совсем новым. Воздух, еще никогда никем не дышанный, и вода, которую мы пили впервые. У старика была флейта с пятью тонами. Он заиграл, и оказалось, что больше и не требуется. Нам вообще ничего не требовалось, у нас все было. Юный Филемон обожал малышку Бавкиду, закрывшую глаза от счастья. Духи пытались подражать им, но эта тайна рода человеческого была им недоступна. Нам пришлось уходить, лишь когда на холм пришли люди, одетые по-городскому — в кожаные сандалии, в белые полотнища через плечо, — и принялись мерять землю. Мы укрылись в скалах. Старик метнул камень и убил геометра. И все-таки вскоре тут возник круглый храм с колоннами, и мы ушли. Голоса верующих, завывавших в экстазе, удалялись. Мы потеряли друг друга, потому что духам двигаться было легче. Нимфы, нырнув в ручьи, тоже исчезли, превратившись в воду. Гномы, уцепившись за лапы коршунов, заскользили с вершины вниз по склонам и, вопя, свалились в кусты дрока. Лишь я да еще почему-то старик брели вперед из последних сил. Скоро мы, шатаясь и то и дело теряя друг друга из виду — я рыдал, он бранился себе под нос, — погрузились в какую-то голубизну, которая из воздушной с каждым шагом становилась все более плотной, почти бетонной. Я рвался вперед в полном отчаянии. Внезапно плотная материя отпустила меня, и я, падая, рухнул на гальку, которую, подняв голову, признал своей собственной. Рядом лежал мой же перевернутый стул. И росла моя жимолость, порядком подсохшая, потому что еще зеленые дочерние побеги получали слишком мало питания от материнских. А вот и мой садовый столик. Я кое-как встал на ноги и поставил стул. Сел. В коленкоровой тетради было полно записей. Куда же делся старик? Я был настолько не в себе, что стал звать его, правда вполголоса, но достаточно громко для того, чтобы из окна выглянула соседка, хорошенькая менеджер по рекламе. Я помахал ей рукой и пошел в дом. Не желая еще раз пережить такое, достал из подвала велосипед и поехал, впервые в жизни один. Едва успев пару раз нажать на педали, я почувствовал себя лучше, а когда взобрался на Дольдер, то дышал уже совсем свободно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рай забвения»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рай забвения» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рай забвения» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.