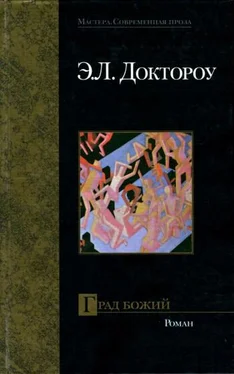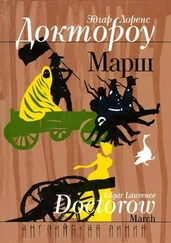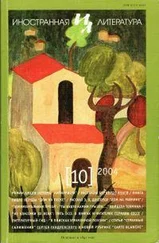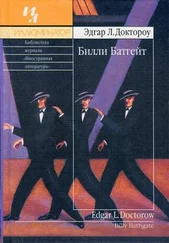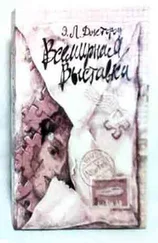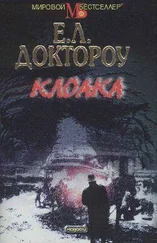Когда огород моего отца вновь зазеленел, немцам понадобилось восполнить рабочую силу на своих заводах, и по мосту потянулись длинные колонны беженцев, бредущих с котомками и чемоданами в руках. Вновь прибывших строили на площади, потом эсэсовцы проверяли их и присылали отобранных людей в канцелярию совета для определения на жительство. Прежде всего гонцы отводили переселенцев в вошебойку. Вши были вечной проблемой гетто, были они и у меня. Это было опасно, потому что вши переносят болезни, например, тиф.
Тем, кто по каким-то причинам не подходил для работы, приказывали забраться в кузов открытого грузовика. Когда кузов наполнялся до отказа, машина уезжала, увозя за реку людей. Я не мог смотреть на них.
К лету население гетто увеличилось до шести-семи тысяч человек. Стало трудно соблюдать положенный рацион питания. Больших усилий требовали санитарные мероприятия. К работе в совете привлекалось много дополнительных людей: у немцев прибавилось бюрократических дел. Очень часто теперь мне приходилось со скоростью ветра бежать в канцелярию совета, чтобы оповестить его членов, что штабная машина с развевающимся нацистским флажком на радиаторе пересекает мост, направляясь к нам. Совету приходилось регистрировать все новых и новых людей, называвших имена — свои или вымышленные. Приходилось господину Барбанелю делать и совершенно секретные записи. Многие из беженцев принесли с собой весть о судьбе других еврейских общин. Недалеко от Каунаса людей выводили в поле, загоняли в заранее вырытые ямы и расстреливали из пулеметов, потом прямо на трупы загоняли следующую партию, и снова в ход шли пулеметы, из ямы раздавались крики боли и ужаса, мужчины, женщины, дети, истекающие кровью, частью погребенные заживо, погибли в этих ямах. Было их десять тысяч, и погибли они в течение одних суток. Несколько разных свидетелей подтвердили это число.
Когда господин Барбанель получал сообщения, он либо дословно записывал то, что ему говорили, либо просил собеседника записать самого. Барбанель вел дневник, в который заносил все происшедшие в гетто события, переписывал туда важные документы, последние распоряжения, постановления, приказы о казнях, свидетельства о смерти, подробности заседаний совета, приказы, подписанные негодяем Шмицем, списки заложников, протоколы переговоров, бланки личных документов — все мыслимые пункты заносились в эту хронику. Я часто видел Барбанеля пишущим. Он использовал при этом любой клочок бумаги, который попадал ему под руку, например, неиспользованные ученические тетрадки. Даже сейчас я закрываю глаза и вижу, как Барбанель пишет мелким красивым почерком на идиш. Мелкие буквы ложатся аккуратными стежками на белый лист бумаги, слова, слетающие с пера, ложатся ровными строчками, в которых воплотилось его страстное желание поведать о том, что происходило каждый день в нашей жизни, жизни пленников, малозаметная, глубокая решимость записать все, зафиксировать события как нечто неделимое, словно это был документ громадной человеческой важности. Впрочем, так оно и было на самом деле. И останется таким навсегда. Конечно, его деятельность была нелегальной. Немцы прекрасно сознавали преступность своих деяний и запретили вести дневники и фотографировать. Все фотоаппараты были конфискованы. Но Барбанель был первым помощником и правой рукой доктора Кенига, и по обязанности он должен был писать множество документов, поэтому Барбанелю было относительно легко совмещать ведение хроники с выполнением повседневных обязанностей.
Сидя в кабинете Барбанеля и видя, как он беседует с вновь прибывшими или как он складывает в портфель приказы немцев за истекшую неделю, я постепенно понял, чем он занимается, и однажды спросил его, не был ли он до войны историком. На мгновение он удивленно вскинул брови, но потом улыбнулся и, покачав головой, сказал: «Ты смышленый парнишка, Йегошуа. Да, я — историк, по необходимости. Но ты ведь никому не расскажешь об этом». Это было утверждение, а не вопрос. Я поклялся, что не скажу, и мы пожали друг другу руки.
До войны Барбанель торговал пиломатериалами. Мне кажется, что в делах совета он занимал более решительную позицию, чем доктор Кениг, в силу своей молодости. Это было большой моральной поддержкой для нас, мальчишек, — насмешки Барбанеля над немцами, издевательские замечания по поводу врагов. Он говорил так, словно главной характеристикой нацистов была не власть над нами, а их непроходимая тупость. Он не проявлял угодливости в присутствии немцев, вел себя сухо и по-деловому. Барбанель не делал никаких усилий чтобы скрыть свое презрение, но немцы по каким-то причинам терпели его отношение.
Читать дальше