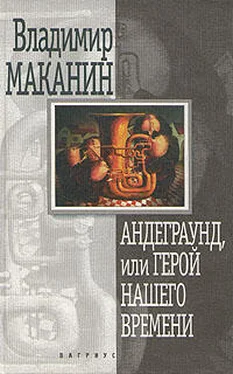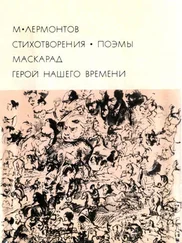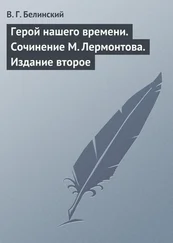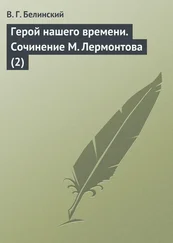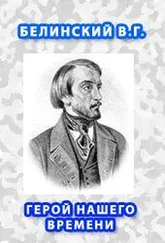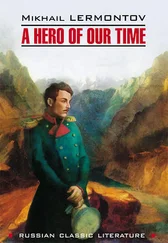— ... Холин-Волин — мой верный глаз в Минздраве. Доносит мне о событиях в неприятельском лагере. Но иногда нето-оочен!
— Я шпион, — снова вскрикнул Холин-Волин. Он как-то боком держал голову. И было видно, какой он молодой. Лет тридцать пять!
— Садитесь же, — приглашает Иван Емельянович.
Я сел.
— А раз сели, то и выпьем! — Холин-Волин повел глазом на пустой (уже пустой) графинчик на столе.
Я, конечно, осторожничаю, спрашиваю — а можно ли мне пить сегодня?
Холин-Волин в хохот:
— Вот какой деликатный больной пошел нынче!
Но Иван Емельянович становится на миг серьезным:
— Обеденный укол вам следует пропустить. А ваш утренний — выпивке не помеха. Вы не спьянеете быстро?
Я улыбнулся.
— Тогда поехали! — уже умоляюще вскрикнул Холин-Волин.
Не так уж они оба были пьяны, скорее, возбуждены предстоящей им выпивкой — почему бы и нет? Большие начальники, волею случая вынужденные дежурить в праздник, пьют себе в удовольствие. (Могут себе позволить. Еще и меня позвали. Могли не позвать.) Иван Емельянович с серьезным видом извлек из шкафа емкий медицинский сосуд с красной сеткой делений. Спирта там на треть. Иван всмотрелся в черточки делений, черпнул ковшиком в другом сосуде (вода) и строгой рукой доливает до нужных градусов — как я понял, до сорока любимых и привычных. Смешивает ложечкой, сбросив туда маленькую щепотку марганцовки. («Серебряная!» — подмигнул мне про ложечку Холин-Волин.) Теперь капля молока из пакета. Иван Емельянович (улыбнулся) помешивает. И, наконец, пропускает через снежно-белую марлю, отцеживая редкие хлопья.
Было общеизвестно, что продажная водка в этот год в магазинах всюду плоха, так что академический ее эквивалент созидался прямо на глазах: с улыбкой и без объяснений. Виртуозно, но не торопясь.
Холин-Волин разливал в тонкостенные химстаканы, а Иван ему пенял:
— ... Не углядел. Срезневского зарубили. И ты, Холин, в этом определенно виноват. Срезневский видит больных. Срезневский — врач настоящий.
— Настоящих-то врачей никто и не любит! — хмыкал Холин-Волин, оправдываясь и вылавливая пальцами из целлофанового пакета кислую капусту.
На столе ничего больше — спирт; и высокие химстаканы. И пакет, наполовину с кислой капустой.
Иван Емельянович поворачивается ко мне:
— Больного видеть — это дар. Наш милый и талантливый Холин-Волин (когда пьян, он приглупляет себя) тоже великолепно видит больных. Замечательно видит! Но он слишком копается в душах. А больные этого не хотят...
— Хотят. Еще как хотят!
— Каждый больной хочет, чтобы его видели, но видели не до конца, Холин, и не насквозь, а в пределах болезни!
В кабинетном застолье невольно чувствуешь себя значительным. И так приятно обволакивал первый хмель. (Я и не заметил, как выпил.) Разговор. Стакан тебе в руки. И в мягком кресле. Я даже несколько приосанился (в больничной-то одежке!). Давненько же я не слышал кабинетных философствований. А они, как на Олимпе, опять о Срезневском, о диссертациях, о Минздраве... Я ведь понимал, что мне оказана честь. Что зван. В разговор, понятно, не лез. Их разговор. Я только слушал, посматривая в окно. И нет-нет кивал, мол, вполне согласен.
За окном тоже было интересно: разъезд. Машины. Би-би-би-би. Забирали на праздники последних. Такси, что под окнами больницы, дорого, больного везут лишь до ближайшего метро, пятьсот метров, а дальше беднягу до самых родных стен будут мять в общественном транспорте. Матерые таксисты, зная расклад, не подъезжали к больнице вовсе. Таксисты помоложе (неопытные), поняв, что к ним сажают психа, тотчас набавляли цену. Неопытные — всегда рвачи. Как не слупить лишнюю денежку! «Совесть у тебя есть?» — кричал родственник.
— Ни совести. Ни денег! — кричал таксист. Они шумно, громко торговались, опьянев от воздуха. А больной, ежась на весеннем ветру, хотел помочиться и переступал ногами.
— ... У всякой, даже у самой мало-мальской нацеленности есть острие. Как это нет цели?.. Интеллигенция обрела цели еще при брежневщине.
— Нужда в служивых людях — это цель?..
— Именно! Именно! — ударяет словом Иван, и мне приходит на ум, что главврач так возбужден и бодр (и так безоглядно выпивает) еще по одной веской причине, помимо дежурства в праздник. Я вспомнил! У Калерии, стоя в череде больных со спущенными штанами, я слышал, что Иван Емельянович ждет Инну, что длинноногая медсестра должна бы прийти, хотя как раз сегодня она и не дежурит. Больные все знают.
— ... А с нами рядом тоже человек интересный и тоже — наша интеллигенция: писатель! — говорит Холин-Волин, вспомнив о моем присутствии (или, может, случайно наткнувшись на меня взглядом, блуждающим в поисках химстакана).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу