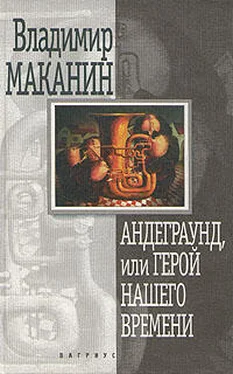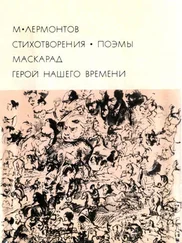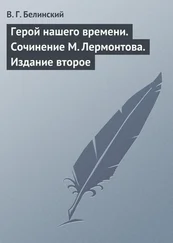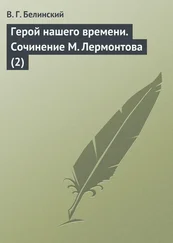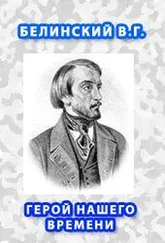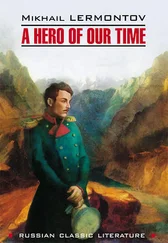Вижу у палаток — внизу — бревнышко (я так и подумал в рассветной мгле, что лежит, забыли, выкатилось укороченное бревно). Оказалось, труп. Под окнами — меж кленов — выскакивала на свет фонарей узкая асфальтовая дорожка, вдоль нее три палатки с торгующими в дневное время кавказцами. Они там ссорились, выясняли, делили сферы влияния. Они и мир установили сами — помимо милиции. Но, как видно, небескровно. И небесследно. (Бревнышко выкатилось на фонарный свет.) Возможно, я и увидел его первый. Но, конечно, и бровью не повел. Лежит и лежит. А я курю. Ночь. Тихо.
Утром — позже, когда уже шел в булочную — я его вновь увидел: возле той же палатки. Мертвый кавказец. Застреленный. (Его сдвинули к краю асфальта, чтоб было пройти, перекатили , лежит на спине.) Моросит дождь. Газетка, что на его лице, все сползает, съезжает и все темнеет от мелких дождевых капель. Ждут милицию. Слухи: чечены (владельцы левого киоска) враждуют с кавказцами двух других киосков, уже объединившихся для отпора. Одного пристрелили, двое подраненных, один в реанимации: ночные счеты.
Он лежал в ту предутреннюю минуту на боку, мертвый, а я выглядывал в полутьме грузовик и покуривал. Светало. Я уже видел, что у укороченного бревнышка есть руки и ноги. Одна рука активно отброшена в сторону: будто бы он жил, просил этой рукой у меня сигарету. Лицо открыто. И утро встречает прохладой. Тихо. Грузовика не было. Но я подумал — все-таки пойду.
Когда возился с ключом в двери, фельдшерица сонно спросила:
— Руку перевязать?
— Не.
Гаврила Попов, а за ним другие, рангом помельче. Затем еще и еще мельче, а когда калибр уже с трудом поддавался измерению — она , Вероничка — объявили про нее от такого-то района города Москвы , демократический представитель. Про стихи не забыли. Мол, это и есть ее главное. Андеграундная маленькая поэтесса. Не с огромным бантом, а со своей смешной темной челкой. Маленький звонкоголосый политик с челкой на брови. Ух, какая! Она тоже ратовала, чтобы московский люд вывалился на проспекты и площади как можно большим числом — объявленный митинг, надо же показать властям, что мы и хотим, и можем! Мы — это народ, подчеркнула.
— Ладно, ладно. Придем, — ворчнул я, одним глазом в телевизор, другим в цветочные горшки Бересцовых. Полить цветы водопроводной водицей. Другая из моих забот у Бересцовых — унитаз: раз в день дернуть цепку, спустить из бачка воду. (Иначе у них застаивается; и несет тиной.) Я дернул дважды кряду.
Шум низвергающейся воды заглушил на миг пламенные ее призывы. Но сам телевизионный овал на виду: Вероникино лицо, конопушки.
— ... Мы все придем! И не надейтесь (вероятно, в адрес коммуняк) — мы не забудем час и не забудем площадь! — выкрикнула (вновь зазвучав) Вероника. Обе знакомые конопушки были на месте. Близко к носу. И ячменек проклюнулся возле правого глаза (небось, на митинге ветрено).
Но под глазами чисто. Ни кругов, ни знаменитых ее темных припухлостей, молодец!
— Ладно, ладно, приду! — вновь пообещал я, ворчливый. Вода уже лилась в цветочные горшки. Тонкой струйкой. Вот такой же струйкой Вероничка вливала в себя вино — брезгливо; и кривя ротик. Но полный стакан. И второй полный. Она была пьянчужкой, прежде чем стать представителем демократов от такого-то района. Хорошая девочка. Стихи. Возможно, андеграунд не настоящий, заквас на политике. Но все-таки стихи. Пила-то она по-настоящему. Тем ранним-ранним утром она задыхалась и бормотала: «Никакой скорой помощи. Никаких врачей...» — А я и не собирался ей никого звать; пожил, повидал и достаточно опытен (знаю, как и чем в крыле К снимают тяжкое женское похмелье). Обычно я забирал и уводил ее от Ивановых, Петровых и Сидоровых, от приезжих из крыла К, от всех этих командировочных — веселых и по-своему бесшабашных людей, если объективно, но субъективно (для меня, для моих усилий по ее вытаскиванию) — гнусных и грязных. Мне уже осточертело. Чтобы оборвать, не точка, так хоть запятая, я как-то взял и отвез ее (потратил время) к ее стареньким родителям, у которых она жила. Но где там! Опять Вероничка замелькала здесь же — вернулась сюда же и попивала с теми же, без особого драматизма, жизнь как жизнь, серенько и ежедневно.
Я ей пересчитывал конопушки, отвлекал. Стуча по скату ее щеки подушечкой пальца, вел учет: две, три, четыре... — пока не оттолкнула, мои руки воняли ей дешевым куревом. В тот памятный раз я вырвал ее из рук среднеазиатских людей (как у смуглых детей; из их тонких, ничем не пахнущих рук). Ей было плохо. (Но ей и всегда было плохо.) Она задыхалась; рвалась на улицу или хотя бы в коридор. Я не пускал — она бы там стала реветь. Я подвел ее к окну, застонала. «Вот тебе воздух. Сколько хочешь! Дыши!..» — но Вероника не держала голову, совсем ослабела. Голова падала, по доске подоконника, по деревяшке — деревянный и звук удара. Я придержал ей голову, носом и ртом к небу, дыши. Обернул простыней. Как бы в парилке, завернутая, выставилась несчастным лицом в окно и дышала, дышала, дышала. Вдохи прерывались только, чтобы пробормотать не зови скорую, прошу ... — не хотела, чтобы белые халаты слышали, как от нее разит.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу