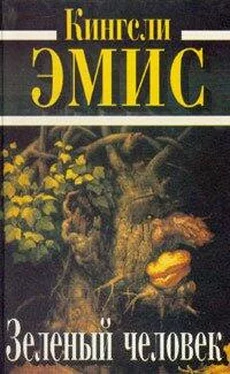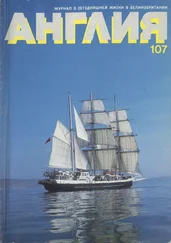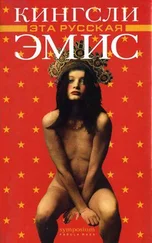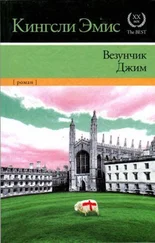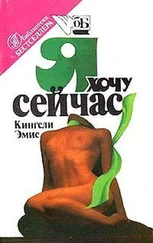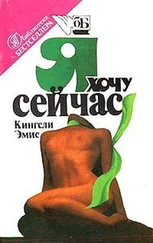— Что ты мог сделать? Встроить лифт? Не думаю, что удар получают от того, что поднимаются по лестнице. Дело в сердце, я полагаю.
— Не знаю, — я опять заколебался. — Все это навело меня на мысли о твоей матери.
— Мама? Какое она имеет к этому отношение?
— Знаешь, я чувствую свою ответственность и за нее, некоторым образом.
— О папа, единственный человек, на ком лежит ответственность, так это тот парень за рулем. Возможно, мама и сама была немного виновата, потому что переходила дорогу, хорошенько не посмотрев по сторонам.
— Меня никогда не покидала мысль, что она могла это сделать обдуманно.
— О боже, да ведь она держала за руку Эми! Мама ни за что не стала бы рисковать, когда Эми рядом. И зачем ей это было нужно? Я имею в виду самоубийство.
— Это очевидно. Томпсон ее унизил.
Томпсон — человек, ради которого Маргарет оставила меня и который за четыре месяца до ее смерти сказал, что вовсе не собирается оставлять жену и детей и создавать с ней новую семью.
— Ну, тогда пусть у Томпсона и болит голова, если вообще можно найти виноватого. Лично я в это не верю.
— Я должен был удержать ее от этого шага.
— Ох, ерунда. Как? Она — свободный человек.
— Мне надо было лучше к ней относиться.
— Ты относился к ней настолько хорошо, что двадцать два года она была с тобой. Все это чепуха. В действительности не твоя вина в ее смерти тебя беспокоит, а то, что она умерла. То же самое с дедом. Их смерти напоминают, что придет день, когда и тебя постигнет та же судьба. Знаю, тебе неприятно, что я сейчас подыгрываю Люси, но ты ведешь себя как эгоист. Прости, папа.
— Хорошо, может, ты и прав.
Он, безусловно, был прав, если говорить о первой половине его обвинений — меня преследовало смутное, но постоянное отчаяние, бессмысленный страх из-за того, что я прожил с покойницей столько лет, говорил, принимал гостей, выезжал, ел, пил с нею, а главное, занимался любовью и имел от нее детей. До сих пор не меньше трех-четырех раз я просыпался по утрам с мыслью, что Маргарет еще жива.
— А как Эми? — спросил Ник. — Она так выглядит…
Я перестал его слушать, когда до меня донесся (или просто показалось) хрустящий шорох, стелющийся по земле перед домом, где-то родом с центральной дверью. Я вскочил, подбежал к окну и выглянул наружу. Верхний свет еще горел, освещая стены, клумбу, дорогу, край крыши, которые были настолько унылыми и пустынными, словно никто никогда здесь вообще не появлялся. Шорох прекратился.
— Что случилось, папа?
— Ничего. Мне показалось, что у дверей кто-то есть. А ты ничего не слышал?
— Нет. Ты себя чувствуешь нормально? — Ник устало на меня посмотрел.
— Конечно.
Меня взволновало то, что шум, который я услышал или который мне послышался, долетел до ушей сразу после упоминания об Эми. Не имею представления, почему я связал одно с другим… Мне хотелось в этом разобраться.
— Ходят… слухи, что в округе появился бандит. Ты о чем-то говорил.
— Ты что-нибудь увидел?
— Нет. Продолжай.
— Хорошо. Я хотел спросить, как именно в эти дни Эми переживает смерть мамы?
— Думаю, в таком возрасте все очень быстро забывается, уходит в прошлое.
— Но она-то сама помнит? Что она говорит?
— Мы не обсуждаем таких вопросов.
— Ты хочешь сказать, что никогда не говорил с ней об этом? Но…
— Попробуй спроси у тринадцатилетнего ребенка, что она чувствует, когда видит, как мать сбивают с ног и она погибает прямо на глазах.
— Нет, это ты должен спросить. — Ник посмотрел на меня. — Берегись, папа, тебя затягивает в омут. С моей точки зрения, все не так страшно, пока твои фантазии не более чем экстравагантная причуда. Но нельзя допустить, чтобы она стала неуправляемой и отвлекала от самого важного. Ты должен поговорить с Эми. Если хочешь, я все устрою. Мы могли бы…
— Нет, Ник. Еще рано. Я хочу сказать, дай мне вначале немного времени, чтобы подумать.
— Конечно, но я к этому разговору еще вернусь, если не возражаешь. И даже если возражаешь.
— Договорились.
Ник встал:
— Паршиво на душе. Как-то все неладно, черт побери. Боюсь, что тебе от меня мало проку сегодня.
— Ошибаешься. Я благодарен за то, что ты приехал и решил остаться.
— Шуму много — толку мало. Боюсь, я только тем и занимался, что давал полезные советы — делай то, не делай этого.
— Наверное, они мне нужны.
— Да, надеюсь. Спокойной ночи, папа.
Мы поцеловались, и он вышел. Я выпил еще виски. В моей записной книжке, оказывается, было очень много самых разнообразных заметок. Я сделал круг по комнате и поочередно осмотрел каждую скульптурную группу. Они не натолкнули меня ни на одну свежую мысль, и я, не признав за ними сейчас ни художественной ценности, ни удачной имитации человеческой природы, никак не мог понять, чем эта скульптура привлекала меня прежде. Услышав, что кто-то скребется в дверь, я впустил Виктора. Он проскочил мимо, раздраженный, возможно, какими-то обрывочными воспоминаниями о Нике, посмевшем ненароком его вспугнуть. Я наклонился и принялся его гладить; под моей рукой он напружинился и заурчал, словно где-то рядом завели старый мопед. Когда я расположился в кресле у книжных полок, он ко мне присоединился и не выразил неудовольствия по поводу того, что его спину используют вместо конторки. В книге, которую я на нем раскрыл, были напечатаны поэмы Мэттью Арнольда в издании Оксфордского университета. Я старался вчитаться в одну из них под названием «Берег в Дувре», которую в основном считал вполне удовлетворительной, хотя и приукрашенной повестью о жизни. Сегодня в ее стоицизме я обнаружил свободу суждений, а эти строки:
Читать дальше