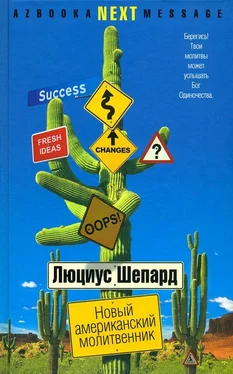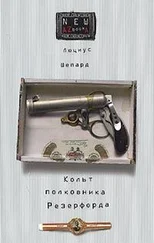Стопки через три после ее отъезда на стоянку перед рестораном въехал серый «мерседес». Из него вылез крепкий бритоголовый мужик средних лет, в твидовом пальто с бархатными лацканами, и, не заглушив двигатель, направился к двери. Тут только я понял, что забыл ее запереть.
— У нас закрыто, — сказал я, когда мужик вошел внутрь.
— Да, конечно, — ответил тот, подошел к стойке и остановился напротив меня, положив руки в перчатках на прилавок.
Он смотрел на меня без всякого выражения, но от него так и веяло враждебностью. Кожа у него была бледная, с красноватыми пятнами на щеках. На верхней губе и подбородке чернела зачаточная эспаньолка с усиками из трехдневной щетины. По контрасту с мясистой мордой его карие глаза, большие и влажные, выглядели почти девичьими. Общее впечатление было на редкость отвратительным, хотя казалось, что он сознательно именно этого и добивался.
— Я Марио Киршнер. Друг Джанет, — произнес он громким и, как мне показалось, нарочито низким голосом, как будто имел в виду нечто гораздо более зловещее, к примеру: «Меня зовут Ринго. Джонни Ринго». [2] Джонни Ринго (1850–1882) — ковбой, бандит, еще при жизни ставший легендой Дикого Запада.
Я не выдержал и засмеялся.
— Джанет, — сказал я. — Мы говорим об одной и той же Джанет?
— Ты знаешь, о ком я говорю.
Я был хоть и пьян, да умен. Я отлично понимал, кто такая Джанет. «Хитрая девка», — подумал я. Вслух я сказал:
— Высокая такая? Лохматый голубой свитер, рыжевато-русые волосы? Мне она сказала, что ее зовут Ванда.
— Лет двадцать назад я бы тебе все кости переломал, — сообщил мне Киршнер задумчиво. — Теперь за меня это делают адвокаты. Так больнее.
— Прежде чем позвать адвокатов, может, скажешь все-таки, что я, по-твоему, натворил?
— Ты что, блин, думаешь, я тут шутки с тобой шутить пришел?
— Погоди, давай поглядим. Ванда… То есть, прошу прощения, Джанет! Джанет приходит сюда, поцапавшись с тобой. Пьяная в стельку. Но ей так хочется добавить еще, что за халявную выпивку она выставляет напоказ титьки. От которых, прошу заметить, и питбуля стошнило бы. Я ей наливаю, она уходит. Теперь являешься ты и угрожаешь мне судебными разборками. — Я отхлебнул еще водки. — Похоже, ты прав. Да, я думаю, ты шутки шутить пришел.
Киршнер сверлил меня ледяным взглядом. И хотя ситуация казалась мне жутко забавной, я вдруг почувствовал первый укол страха.
— Ну а она что говорит? — спросил я.
— Хватит с меня твоего дерьма!
— Мужик, да я серьезно! Мне ведь интересно. Я-то знаю, что я ее не трахал. Но тебе она, похоже, сказала другое… Вот я и думаю: может, у нее своя программа? Может, она кашу заварить хочет?
— Я ведь могу ее и сюда привести. Посмотрим, как ты запоешь, глядя ей в глаза, после всего, что было.
Я поглядел в окно на «мерседес», от которого поднимался белый пар, и попытался рассмотреть смутную фигуру за запотевшим стеклом.
— Она там, снаружи? Ну так веди ее сюда! Если уж я вынес вид ее титек, то остальным меня не напугаешь.
Киршнер сграбастал меня за свитер и притянул к себе.
— Сукин сын! — сказал он, брызгая слюной.
Он еще что-то говорил, но я уже ничего не соображал. Теплые брызги его слюны на моей физиономии, исходивший от него запах лосьона или одеколона, само его физическое присутствие вызвали во мне омерзение, сравнимое по силе лишь с ощущениями человека, по руке которого ползет огромный паук, так что я перестал воспринимать его как индивида и словно бы даже выпал на мгновение из времени. Я сунул локоть ему под подбородок и стал давить назад, и, пока он вырывался, я схватил бутылку «Кетель-1» и ударил его по макушке. Раздался глухой стук, совершенно не страшный, как будто кто-то задел головой о притолоку. Лицо Киршнера вдруг опустело, и он повалился на пол, как будто его выдернули из сети.
Теперь я знаю, что в тот момент Киршнер уже умирал от перелома черепа и субдуральной гематомы, но тогда пульс у него был ровный и никаких внешних признаков кровотечения не наблюдалось. Поэтому я решил, что через пару минут он очухается. Я подошел к окну. Ванда (урожденная Джанет Пьятковски) протерла чистый кружок на запотевшем ветровом стекле. Сквозь него я видел ее свитер, контуры прически и блестящие красные губы, сложенные буквой «о». Было ясно, что она все видела. Некоторое время — секунд двадцать, не меньше — мы с ней глядели друг на друга, и именно в эти секунды определилась вся моя дальнейшая судьба, потому что именно тогда в сознании Ванды — я никогда не думаю о ней как о Джанет или даже Брук — окончательно сложились все детали истории о ничем не спровоцированном нападении, которую она расскажет в суде, после чего окружной прокурор предъявит мне обвинение в убийстве второй степени.
Читать дальше