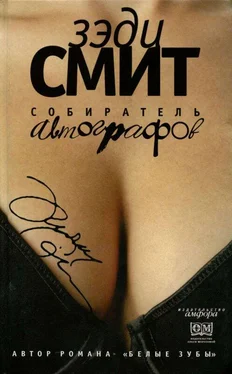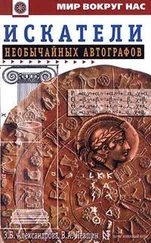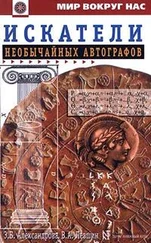Алекс надел наушники. Молодежи предлагалась на выбор музыка трех жанров, один другого скучнее. Комедийный канал из кожи вон лез, прикалываясь над развеселой жизнью молодежи («Так ты моешь чашки-тарелки, да? И тут она нарисовалась, да?») — Алекс не сразу уловил юмор, и ему тут же захотелось повеситься. Наконец нашлась дзэн-буддистская запись — целительница из Луизианы нашептывала под шум моря парадоксы для обдумывания и релаксации. Море погрохатывало как-то особенно завораживающе, словно делясь мелодичностью, которой никогда не услышишь на реальном берегу, среди выброшенного волнами мусора.
«Обезумевшая мать, — вещала целительница, — умоляла Будду воскресить ее умершего ребенка, которого держала на руках. Он не сотворил чуда. Он сказал: „Принеси мне горчичное зерно из дома, где никто…“»
— Вас не затруднит пристегнуть ремни, сэр? Предупреждающая надпись еще не выключена, — сказала стюардесса Алексу — он даже не заметил, что они в воздухе.
2
Осенняя земля скрылась из виду (Англия с воздуха всегда осенняя), они летели над облаками. Алекс представил, каким видит его самолет едущий в машине по земле скучающий юнец. Надо бы им поменяться местами — этот самолет предназначен именно для таких, очень скучающих и очень юных, людей. Впереди — шесть с половиной часов полета, заполненные только едой, телепередачами и коротким сном. Все эти прелести хищно дожидались Алекса, мечтали им завладеть. С детских лет никто так навязчиво не заботился о его комфорте и сне.
В салоне царила тишь и благодать. Будто и не летят они, и вообще ничего такого сверхъестественного вокруг не происходит. Никаких признаков, что Алекса и еще четыреста человек, неизвестно какого здоровья, засунули в четырехсоттонную летающую бочку, которая взвилась на высоту тридцати пяти тысяч футов и несется в поднебесье, свирепо пыхая двигателями, со скоростью, которой никто на борту не в состоянии даже представить. Все в самолете было интерфейсом — как на дисплее компьютера. Ничто на борту не говорило о полете — так же как на дисплей не выводится информация о работающем процессоре. Милые-премилые картинки. Увлекательные рассказики, которыми все потчуют друг друга. Алекс наклонился вбок и оглядел салон: повсюду, сколько хватало глаз, наблюдалась одна и та же картина. Те же обеды, те же мелкие неприятности (пролитый сок, сломанная ручка, скомканное одеяло, лопнувший пластиковый стаканчик), откинувшиеся под одним и тем же углом тела, одинаковые телеэкраны с одними и теми же отцом и сыном на них, играющими в мяч, та же нависающая над каждым пассажиром неусыпная забота. В такой обстановке все сидели тихо-смирно, никому и в голову не приходило выкинуть что-то из ряда вон выходящее. Только сумасшедший — или герой — мог взбаламутить разлитое в салоне спокойствие.
Дзэн-леди под аккомпанемент птичьего пения вещала: «Деяния вознаграждаются знанием, потому что, меняя окружающий мир, мы меняемся сами. Каждое движение человека на сцене жизни полно символики и приближает к постижению неотъемлемой от исполняемой им роли истины. Всю же глубину ее можно постичь только через неминуемое для каждого страдание». Алекс переключился на шестой канал, по которому вот-вот должен был начаться знаменитый фильм «Касабланка».
«Один Господь ведает, — думал Алекс через полтора часа, когда настроение его заметно поднялось, — почему Европа сняла множество американских фильмов, а Америка только один европейский — „Касабланка“. О „Касабланка“! Рик играет в шахматы, а не в карты. Все до одного тамошние европейские актеры-иммигранты заняты в этом фильме. Музыка, сценарий, режиссура — все европейского толка, рассчитано на европейский слух и взгляд. Вы только посмотрите на это чудо! Американская картина без хеппи-энда, снятая европейцами, большей частью европейскими евреями, в разгар Второй мировой войны!» Алекс пришел к выводу, что ни до, ни после не появлялось благодаря стечению обстоятельств такого произведения искусства. Он хорошо знал историю создания картины. Сценарий дописывался каждый день. Актеры не знали, что им предстоит делать, пока не оказывались на съемочной площадке. Алекс откинул кресло назад на еще один щелчок (нарочно его припас) и стал наслаждаться размерами головы Богарта. В такт словам актер поигрывал морщинами — неброско, точно, почти дзэн-безукоризненно:
Рено: Я все время ломаю голову над тем, почему вы не вернулись в Америку. Скрываетесь с церковными пожертвованиями? Сбежали когда-то с женой сенатора? Хотя я бы предпочел думать, что вы убили человека. Такой вот я романтик.
Читать дальше