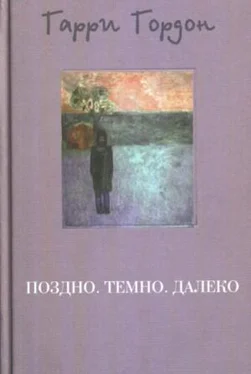Пятясь, Плющ докрасил последний метр пола, в маленьком тамбуре обтер руки тряпкой с разбавителем и вышел.
Было не жарко, ветерок перепутывал кроны, в синих аллеях улиц вспыхивали и гасли белые и оранжевые пуговицы прохожих. На Софиевской он догнал Морозова с коляской.
— Ты знаешь, Костик, — сообщил Морозов, — Кока в Одессе.
— Да… знаю, — осторожно ответил Плющ.
— Странно, — задумчиво сказал Морозов, — ко мне не зашел.
— Зайдет еще, — обнадежил Плющ.
— Вряд ли, он в четверг уезжает. Последняя дурка, — оживился Морозов, — Шуревич завязал.
— Ну и что? — удивился Плющ, не увидев в этом никакой дурки.
— Слушай дальше, — продолжал Морозов, — проезжаю мимо окна и вижу: сидит Шуревич перед зеркалом, пьет из бутылки кефир, и после каждого глотка мацает свой бицепс. А?!
— Слушай, Морозов, — отсмеявшись, спросил Плющ, — ты не помнишь случайно адрес Розы, Карликовой сестры. С тех пор как они переехали, я был там только один раз.
Морозов закатил глаза:
— Значит так: Юго-Западный массив, улица Новоселов, угол Варненской.
— А, спасибо, я там найду. Теперь, с твоего разрешения, я тебя обгоню.
— Обгоняй, обгоняй, — усмехнулся Морозов.
«Что-то пошло не в ту степь», — маялся Эдик. Роман комкался, романом никак не становился, желаемой полифонией не пахло. Выпер острый сюжет, любопытный сам по себе, но все это сильно смахивало на приключенческую повесть. Все-таки без опыта не справиться, читай не читай, разбирайся сколько угодно, — материал гнется, ломается, звякают какие-то словечки, многозначительные пейзажи, точные сами по себе, изобличают дилетанта. Есть герои, характеры, опять же по-дилетантски, как живые, фотографические, или наоборот — лезет, зараза, какая-то символика, как в плохом кино. Слова, говорю, нет, а есть словечки.
Этот одесский жаргон, будь он проклят, вызывает смех там, где не надо. Бабелевщины, слава Богу, нет, но нет и Эдика. Нет самого главного, ради чего все и затевалось. Правда правдой, ни плохих ни хороших, но эта объективность и мешает, нет ощущения единственности, уникальности, смертельности, что ли, бытия. Пришел Измаил.
— Ну что, работаешь? — спросил он, закуривая.
— Работаю, — сердито ответил Эдик, — как бенгальский тигр, а толку…
— А ты думал…
— Я и сейчас думаю, — вызывающе ответил Эдик, — так редко заходишь, не мог на бутылку накопить?
— Ты же работаешь, — засмеялся Измаил. — Знаешь, чего я пришел? Сегодня же у Карлика день рождения.
— Правильно, — подумав, согласился Эдик, — двенадцатое июля. Как я забыл…
— Я и сам забыл, — успокоил Изя, — Розка позвонила.
— Тем более… Лена, — крикнул он в комнату, — где у нас вчерашний глинтвейн?
— Там где-то, в майонезной баночке, — недовольно откликнулась Лена.
— Да подожди, — усаживал Измаил, — часам к шести пойдем туда, к маме, они что-то готовят. Я ж специально за тобой зашел.
— Так еще больше часа, — беспокоился Эдик.
— Ну и что, поставь чайник и прочти что-нибудь.
— Нечего читать, — сказал Эдик.
— Ладно, старик, не жмись.
Эдик вздохнул, надел очки, и стал копошиться в бумаге.
— Все, — сказала Лионелла Архиповна, — идите в комнату, а я рассчитаюсь с этим, и в зале посмотрю, а то Зойка может выпустить меня в трубу.
— А где эта девочка, Маруся? — спросила Натка.
— Это разве девочка? Это жеребец, а не девочка!.. Ей только жрать! А к гостям выходить кто… Пушкин будет? Уволила я ее…
«Видали вы когда-нибудь такое паскудство? Нет, я не видела еще такого паскудства! Что придумал этот Антонеску! Этот лабух с навозом за ушами! Как вам это нравится? Мы теперь — Транснистрия! — Она швырнула газету на пол. — В гробу я его видела вместе с этой Транснистрией. Можно подумать, что Одесса для него какая-нибудь Бирзула или их вонючие Фокшаны…»
«… Генкин голос серебристо вытягивался и звенел, он пел о свободе, о лазурных морях, о поющих в тугих вантах южных пассатах, о белых коралловых рифах, о старых моряках, о мужской чести и гордой любви, возбуждая в Ильке горькую печаль по чему-то светлому и несбыточному и щемящую тоску по безвозвратно прошедшему. А песня трепетала, как бы надеясь вырваться на простор из прокуренной комнаты, билась о стекла окон, металась под потолком и, не найдя выхода, таяла в Илькиной груди теплой сиреневой болью…»
— Блеск, старик, — воскликнул Измаил, привстал и пожал Эдику руку. — А какая, нет, ты подожди, какая точность! Бабель! Паустовский! А характеры какие! Лена, а вам нравится?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу