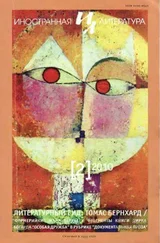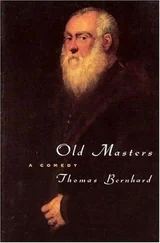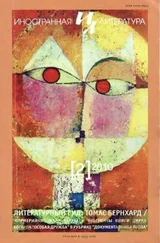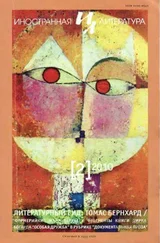О скотокрадах и коровьей бойне все, конечно, успели прослышать, и живодеру пришлось отправиться к ручью, чтобы набить мешки тем, что осталось от коров, и доставить это добро домой. Он воспользовался санной упряжкой бургомистра, я мог бы поехать с ним, но в конце концов передумал, да я ничего бы и не увидел, так как снег всё уже успел замести. Он отломал от голов рога и привез их вместе с хвостами. И описал всё совсем иначе, нежели Штраух, однако то, что он сказал, подтверждало суждения обоих относительно этого дела.
Люди были взбудоражены, в последнее время часто уводили коров и варварски забивали их где-нибудь у проточной воды. «Скорее всего, это были три коровы и один теленок», — размышлял художник внизу, в зальчике. Глядя на него, живодер спросил, откуда он это знает. Ведь, кроме него, живодера, об этом никто ничего не знает. «Это лишь предположение, — ответил художник, — всего лишь предположение». И тут же сообразил: «А разве вы не нашли там шесть рогов, три хвоста и четыре головы?» — «Так-то оно так», — согласился живодер, но он никому об этом не рассказывал и про количество не говорил. «Должно быть, всё же рассказали», — ответил художник. Живодер был немало удивлен.
До самой ночи шли разговоры о скотокрадах. Художник еще раз поведал мне всю историю, но сейчас, когда я услышал ее во второй раз, она подействовала на меня отталкивающим образом и, можно сказать, оттолкнула в лучшую сторону. Меня буквально тошнило, было такое чувство, что художник смакует эту историю, с необычайной приятностью щекочущую его просто в силу возбуждаемых ею жутких, темных, как бездна, ощущений. Хозяйка немедленно сварила хвосты, уже за обедом все без малейшего отвращения хлебали суп. И я тоже. Живодер сказал, что буквально закидал собак свежими костями. Все смеялись по поводу супа, который «нам воры спроворили»! От смеха у них валились ложки из рук. Но тем не менее всё было съедено. Художник ел и помалкивал. Он выглядел так, будто хранит какую-то великую тайну. Разумеется, обо всей этой истории он знал больше других. Но от своего решения не отступал. Он никому не сказал, что слышал возню воров, а может, и о том, как застал момент их исчезновения в лесу. «Черная беспорядочная мельтешня бегства и грубое переволакивание мешков на тот берег», — говорил он в прошлый раз. Он не вполне уверен, что это впечатление имеет реальное основание, что это не фантазия. «Тут не одна лишь фантазия», — сказал он. В последнее время отмечено много случаев подобной кражи скота. Но только ни единого следа «этой сволочи» нигде не обнаружено. «Теперь ищи ветра в поле», — говорили они. «Да, — сказал художник, — снег заметает все следы. Ворье на снег и рассчитывает. Снег укрывает их преступления». Инженер, подошедший тем временем к столу, сообщил, что ближе к полудню ему удалось сделать наблюдение, которое могло бы вывести на воров. «Следы», — сказал он. Потом, часа два спустя, следы исчезли. Уже в полдень «не было ни малейшей зацепки».
«Всю ночь я пролежал в своей комнате, на полу, если хотите знать. Другой, наверное, поднял бы крик, начал бы стучать, чтобы привлечь внимание. Если бы снизу не тянуло таким холодом, — сказал художник, — снизу идет страшный холод. Я замерзаю, потому что голова вытягивает из тела всё. Совсем даже не холодно, а я мерзну. Как бы и чем бы ни укрывался, всё равно мерзну. А голова снова становится непомерно огромной, вздувается, всё это развернулось в какой-то полусон: громадная голова дышала и едва не раздавила мне грудь. Бедра были такие холодные, что я ощупывал их, опасаясь, что они уже помертвели, и голени и ступни, которыми я, к вашему сведению, всё время шевелил, чтобы разогрелись… На сей раз этого не произошло, и вообще нет такой методы, которая помогла бы согреть меня… "Дожидаться утра?" — спросил я себя и закрыл глаза. Но уже одно это смыкание век означает мучительную вивисекцию всего моего существа. И резкое усилие открыть глаза тоже! Я открываю глаза медленнее, чем кто-либо, и закрываю их так же медленно. Глаза, рот и уши у меня одинаково чувствительны; они такие большие и поэтому причиняют мне страшную боль. Большая берцовая кость и ключица обтянуты совсем тонкой кожей. Нервам не за что зацепиться. Часы текут всё медленнее, скоротать ночь становится всё труднее. Да и своего Паскаля я уже не могу читать. Ни единого слова. Ни буквы. Скоро истощится весь запас мыслей о том, как можно одолеть ночь. Вскоре, не говоря уж о голове, на теле не останется ни одной точки, которая при нажиме не отзывалась бы неимоверной болью. Что бы я ни делал, к головной боли прибавляются и те боли, которые я чувствую, когда ставлю куда-нибудь ногу, когда трогаю что-нибудь рукой, независимо от того, с чем и где я соприкасаюсь, это пытка, это такая боль. К тому же всходы мыслей бьют по внутренним стенкам черепа; каждый раз такое чувство, что голова вот-вот разлетится на куски, стоит мне только перейти от одного образа к другому. Эти беспрестанные толчки мыслей доведут меня до безумия. Вы, должно быть, думаете, никто не способен к такому самообладанию. Всякий предмет, попавшись мне на глаза, причиняет мне боль. Каждая краска, которую я не могу не видеть. Всякое воспоминание, неожиданное и случайное, всё, всё. Я уже не могу смотреть в корень, в причину какой-либо вещи, так как это в мгновение ока уничтожило бы или свело бы меня с ума, так что всё мне покажется полным безумием, а сам я окажусь тварью окаянной. Понимаете?! Я уже перешел границы…»
Читать дальше