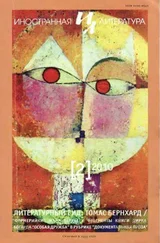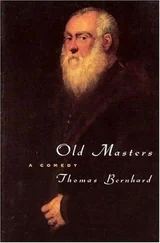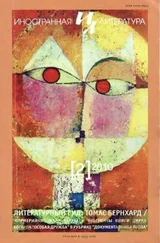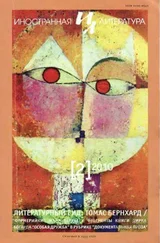Я вдруг вспомнил, что сегодня мне исполняется двадцать три года. Никому, ни одной душе не подумалось об этом. Может, и подумалось, но никто не знает, где я. Кроме ассистента, никто не знает о моем местонахождении.
«Есть некий болевой центр, из него исходит всё, — сказал он. — Этот центр боли — в центре самой природы. Природа строится на многих центрах, но главным образом на болевом. Он, как и другие центры природы, строится на сверхболи, он стоит, можно сказать, на монументальной боли. Знаете, — сказал художник, — я и попытался бы разогнуться, но для меня это невозможно. Я чересчур горблюсь. Разве не так? Вы уж извините мне мою сгорбленность. Наверное, у меня жалкий вид. Вам и не вообразить неимоверность моей боли. Боль и мука во мне нижутся друг на друга, руки и ноги сопротивляются, как могут, но всё больше становятся невиннейшими из жертв. Да еще этот сырой снег, эти неимоверные массы снега! Бывают состояния, когда голова становится непосильной ношей. А какое напряжение сил: десять обычных мужчин не смогут поднять мою голову, если не обладают определенной выучкой. Вы только представьте себе: я трачу силу десятерых специально обученных атлетов, чтобы держать голову. Если бы я мог развить эту силу для себя! Видите, я растрачиваю свою силу без всякого смысла, ибо это бессмыслица — держать поднятой такую голову, как моя. Если бы хоть сотую долю этой силы я мог вложить в самого себя, так, чтобы от этого было побольше толку… Я бы перетасовал все правила и все достижения мысли. Я стяжал бы всю славу духовного мира. Сотую долю! И я стал бы чем-то вроде второго творца! Люди не смогли бы мне возразить! Я бы мигом повернул вспять тысячелетия и заставил бы течь в другом, лучшем направлении. А так мои силы сосредоточены на моей голове, на ее боли, и всё бессмысленно. Эта голова, доложу вам, ни на что не способна. В ее сердцевине пылает беспомощный земной шар, и всё заполнено разъятыми созвучиями!»
«Воспоминание порождает болезнь. Всплывает какое-то слово, рисующее городские кварталы. Ужасающая архитектура. Внутренний взгляд упирается в людские скопища, попытки сближения с ними бессмысленны! День угас». Девяносто восемь человек из ста, по его мнению, страдают навязчивыми идеями, с которыми засыпают и просыпаются. «Каждый норовит перейти вброд омут какой-нибудь идеи, одни погружаются по горло, другие с головой, покуда мрак не укажет им на полную безнадежность. Полицейские каталажки с послеполуденной тишиной, с храпом и испарениями от тел заключенных… Одному лезет в голову то же, что и другому: человеческое месиво дорожной катастрофы, случившейся то ли несколько недель, то ли несколько лет назад. Севооборот совершают здесь, не ведая ни о странах света, ни об интенсивности светопоглощения: леса, луга, дороги, рыночные площади, что рвутся на части по воле фантазии, ярятся реки, разбитые плотинами, хозяева-мастеровые орудуют длинными ножами в мозгах голытьбы». Есть поистине престарелые мечты, так называемая «юриспруденция простых людей». Закон, гласящий, что всё повторяется и в то же время неповторимо. Бесконечное перелопачивание, полное рассыпание всех понятий. Радость тянет к себе радость, порок — порок, рисовка — рисовку, любовь — любовь. «То, что соединяет меня с самим собой — дальше всего от меня», и «время — отнюдь не средство заниматься им», и «я — жертва собственных теорий и в то же время их властелин».
Он задается вопросом, что значат воспоминания, эти охлопки поразительных впечатлений, которых уже не понять. Воспоминание топчется на месте и беспрестанно, бесконечно цитирует само себя точно так же, как и отбрасывается, еще не став воспоминанием. Словно на сцене, люди держат дистанцию. Уклоняются как бы всегда на одном и том же клочке плоскости. Его родной угол скорее всего — за ширмой бесконечности. И что же? Звук будет слабеть, а с ним, наконец, и зрительное впечатление «от того, от чего надо отводить глаза, слабеть медленно, нескончаемо. Спустя годы остается одна пустота». Временами всплывает из потока какая-нибудь картина, примечательная и так богато окрашенная именно тем, что доводит до отчаяния. Прошлое: детство, юность, боль, что давно умерла или не умерла, осколок весны, осколок зимы, что-то из лета — какого? — нечто, что было милее всего. Сплетение гравийных дорожек и больших дорог, могилы родственников и любимых, мужчины, несущие женщину в гробу и заслоняющие весь белый свет, возчики за погрузкой бочек, служащие пивоварни, рабочие сыроварни, сломанный сук на дереве у родительского дома: страх, ведущий в омут. Совпадение случайностей делает больным то, что только что было здоровым, оно неисчерпаемо. «Всё на Земле есть лишь самовоплощение». Кто-то неустанно трудится над тем, чтобы такое фантастическое существо, как человека, укрепить в его способностях. Воспоминания лишь свободное пристрастие. «Иначе оно губит всё, разрушает даже самое твердое в человеке». Безумие, радость, довольство, упрямство и невежество, вера и безверие — всегда к услугам воспоминания. «Это единственное из удовольствий, отводящее смерть». Установить отношения с воспоминанием как с человеком, с которым временами расстаешься, чтобы потом вновь и вновь с еще большей приязнью и готовностью принять его в своем доме, значит всё больше радеть и воспоминанию, и человеку. Воспоминанию предшествует определенный план, оставшийся неосуществленным. Таких планов много. Воспоминание ретроспективно, оно смотрит в прошлое со своих сторожевых вышек, оно способно дарить милостыню, но никогда не готово к этому. Оно побуждает к сюрпризам на день рождения, к подделке документов. Оно часто превращает похороны в кротко замирающую скорбную церемонию. Оно притворяется глухим, каким может быть мир, и нередко заговаривает с такой нечаянной резкостью, словно это любимый брат допытывается о вещах, связанных с любимой сестрой. Оно на глазах превращается в тончайшую связующую ткань между теорией и чувством человека, некоего характера и приходит, «по всей видимости, всегда вовремя». Никакой лжи. Даже расчетливости. Ничего головного. Никакого аскетизма. Глубоко уверовав в его возможности, человек ходит по земле, нем и глух ко всему, что не вытекает из воспоминания. Это «вечное созидание мысли и ровной печали», и не только ради самого себя, но ради «ежедневной неясности и ежедневной дани вечному отчаянию».
Читать дальше