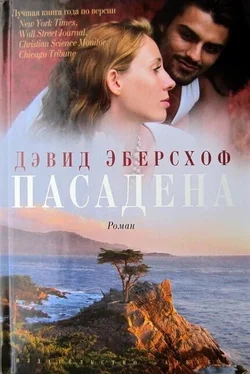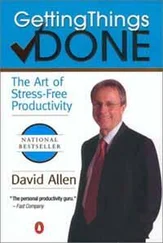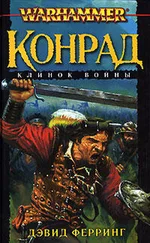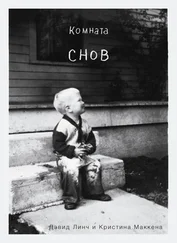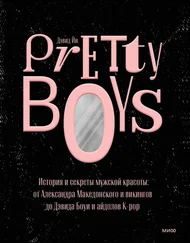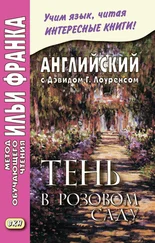Первый раз они поссорились из-за имени девочки; когда медсестра подала Линди орущего, в серой смазке младенца, она сразу же поняла, что хочет назвать ее Зиглинда. «Ну что это за имя? — возразил Уиллис. — Эмигрантское какое-то». Имя как имя, ответила Линди, и грудь молодой матери сковал страх. Оставшись в своей комнате, она гневно раскричалась, что ей никто не смеет указывать, как называть собственную дочь, голос ее заглушал крики младенца, а пот, лившийся с нее градом, мешался с кровью, пачкавшей простыни. От всего этого на лице молодого палы Уиллиса появилась счастливая широкая улыбка, и Линди поняла, что испугала его — как будто в первый раз он заглянул в туннель ее души, осветив его холодным светом карбидной лампы.
С годами Уиллис понял: легче утаивать кое-что от жены, чем спорить с ней. Он не сказал ей, что в начале лета тридцатого года продал двести акров земли дорожной компании Пасадены; это был самый дикий уголок ранчо, где Линди учила дочь ездить верхом на маленькой лошадке и стрелять из старинного винчестера образца тысяча восемьсот семьдесят третьего года — на ложе у него была прикреплена серебряная пластина с портретом обнаженной красотки из бара. Уиллис не заботился о том, чтобы посвятить жену в эту сделку, и Линди узнала о ней только из «Стар ньюс». На ее вопрос он ответил, что продал землю не для того, чтобы разрушить Пасадену, а, наоборот, чтобы сохранить ее. «Мы ведь хотим, чтобы шоссе подходило прямо к нашим воротам, да? Это будет как железная дорога, — предсказывал он. — Не захочешь же ты оставаться на обочине!» Но Линди сомневалась, правильно ли он делает; поток открытых двухместных машин, «испано-сюиз», гудение грузовиков на Колорадо-стрит служили для нее явными знаками того, что будет дальше. Когда она отважилась сказать об этом мужу, он беззаботно отмахнулся: «Ты-то что из-за этого волнуешься?»
В последнее время — особенно жарким летом, когда весь город охватывало какое-то нервное состояние, а Линди с Уиллисом по ночам мучились от жары, даже лежа на открытой веранде, — она все чаще задумывалась, не уехать ли из Пасадены, пусть даже ненадолго. Это желание сменить место было неопределенным, но не отпускало ее ни на миг. Линди и сама не знала, что хотела найти за воротами, за горами Сьерра-Мадре, от которых ложились по утрам длинные тени; были дни, когда больше всего ей хотелось увидеть океан и ощутить на коже твердую корку соли. Иногда она сажала Зиглинду в машину, и они отправлялись в Санта-Монику. На пляже клуба «Джонатан» Линди усаживалась в кресло из тика и смотрела, как дочь строит замки из песка. Неписаное, но строго соблюдаемое правило запрещало матерям подходить к детям, когда те играли на песке. Молодые девушки, лет семнадцати-девятнадцати, светлокожие, узкобедрые, входили в воду в купальниках из прорезиненных тканей и камвольной шерсти, натирали друг друга кокосовым маслом, но этого никогда не делали ни матери, ни жены. Линди видела, как на пляже, вдалеке от отделенного канатами песка клуба «Джонатан», семьи мексиканцев катались на досках, а матери, моложе, чем она сама, заводили в воду маленьких обнаженных детишек. Отцы семейств рыли в песке ямы, жгли костры, на закате солнца открывали корзины для пикников с лепешками и пирожками, а Линди с Зиглиндой шли по пляжу к парковке. Молодые матери, детишки с сиявшими на солнце попками, мужья и братья с густыми усами… Линди знала, о чем они будут говорить, когда солнце заскользит к горизонту и края облаков окрасятся оранжевым. Но Уиллис не любил, когда Линди ездила по ночам; ему не нравилось, что Зиглинда обедает «в общественном месте»; он отворачивался от жены, если замечал следы соли на ее разгоряченном, теплом лице. Раньше она спорила с ним, а теперь перестала. Она звала его снизу лестницы, кладя руку на ножку купидона. Уиллис бегом спускался по ступеням, целовал ее в лоб и говорил: «Нет-нет… Я и не думал говорить тебе, что делать».
А на самом деле он думал об этом.
Кроме ежедневных поездок в Санта-Монику, вечеров под шатром теннисного павильона клуба «Долина» или прогулок в горах, Линди решительно некуда было отправиться. Уиллис, чувство самодостаточности которого не простиралось дальше въездных ворот, не любил покидать ранчо и говорил: «А кто будет смотреть за хозяйством? Роза? Хертс со Слаем?»
Зиглинда родилась через несколько дней после того, как Линди дала показания на суде Брудера. Девочка появилась на свет с горлом, обмотанным кровавой пуповиной, отчего лицо у нее было синюшного цвета. Когда доктор Бёрчбек перерезал пуповину, раздался страшный крик, такой высокий и резкий, что сестры из двух соседних отделений сбежались в родильную палату посмотреть, что это за чудо-юдо родилось. Прижимая пальцы к губам, они глазели на крупную синюю новорожденную, и каждая думала про себя: «Бедная мамаша… трудно же ей пришлось». И все-таки через две недели Линди снова стала работать на ранчо, помогала Хертсу и Слаю готовить дом к приезду новых сезонников, драила деревянные полы в хибарке Юаней. Вскоре прошел слух, что Брудеру вот-вот вынесут приговор, и Линди проехала вдоль побережья, чтобы услышать, как судья Динкльман оглашает будущее Брудера. Она настояла на том, чтобы взять девочку с собой, и Зиглинда, кричавшая каждый день до хрипоты, заснула как по волшебству и мирно проспала все заседание. Брудер все время вертелся на своем месте, и Линди не поняла, заметил он ее или нет. Она очень надеялась, что дочь проснется, закричит и привлечет к ним всеобщее внимание. Он заметит ее; он увидит, что она пришла. Но Зиглинда спала, как будто ее опоили каким-то зельем; Линди несколько раз сильно ущипнула ее, скручивая кожу, но даже это не разбудило девочку.
Читать дальше