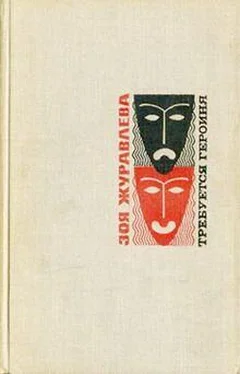Институтский народ быстро тогда разобрался, что к чему. И к матери сразу стала очередь: все значительные статьи шли теперь только через нее. Можно сказать, что на матери держалась целая научная отрасль, немаловажная в народном хозяйстве. И домой к ней бежали после работы. Срочно. Спешно. Журнал ждет. Издательство помирает.
Вечно они табунились дома, эти научные силы. Кандидат наук Хромов. Завсектором Николаенко. Завлабораторией Ламакин. Профессор Кузнецов. Юрий с детства привык к этим званиям и степеням, уже казалось, в порядке вещей. Как домоуправ Спиридоныч. Или гардеробщица Женя. Просто фамилия уже выглядела голо: «Кузнецов». Это что же за Кузнецов? А-а-а, это же «профессор Кузнецов». Который всегда пересчитывает копирку до листа и проверяет поля школьной линейкой.
В институте, конечно, был разный народ.
Но к одному, Ивановскому, Юрий всегда чувствовал особую тревожную настороженность. И даже подрастая, не мог ее в себе одолеть. Тогда Ивановский был еще кандидатом, с легким брюшком и проплешиной, которую прятал. Этот Ивановский вечно притаскивал матери грязные черновики – какие-то цифры, графики, бессвязное описание опыта и намеки на выводы. Мать к этому времени уже поднаторела в профиле института, особенно – лаборатории Ивановского. Из его винегрета она ухитрялась делать довольно приличные статьи, все кругом прямо поражались. А этот нахал Ивановский, унося в клюве готовенькую работу, еще надувался и поощрительно говорил матери:
«Вы, Верочка, думающая машинистка. Вы, Верочка, исключительно схватываете мысль».
«Зачем тебе это надо? – сердился Юрий, когда достаточно вырос, чтобы сердиться. – Он же двух слов сам не может связать! Пожалела бы лучше науку!»
«А мне Аню жалко, – смеялась мать. – Это я для Ани».
Аня была жена Ивановского, она его прямо боготворила. Все забегала к матери посекретничать, какой Ивановский умный, чистый, честный. И как ему трудно в этой научной клоаке – имелся в виду институт. Как ему все завидуют и строят козни.
«Она прямо больная какая-то, твоя Аня», – говорил Юрий.
«Просто она его любит…»
«Ничего себе просто. Кого? Ивановского?»
«А что? – говорила мать. – Она просто верующая. По натуре. По своей конституции. Он на нее однажды взглянул, и она в него на всю жизнь поверила, так у женщин бывает».
Позже-то Юрий сам убедился, как это бывает.
А тогда он только крутил головой. Пока, наконец, не понял, что дело не в Ане. И уж, конечно, не в Ивановском. Просто не так уж мать счастлива за своей машинкой, перестукивая чужие работы. Мало ей этого. Она бы свои давно делала. Недаром она сидит в лаборатории Ивановского и все роется в специальных книжках. Она бы сама давно кончила аспирантуру и всем нос утерла. Но поздно уже начинать. А кому нужны прозрения машинистки широкого профиля в узком, сугубом вопросе большой науки? Только Ивановскому. И мать ночами готовила статьи Ивановскому и гнала прочь всякие мысли, которые опоздали.
Горько было это понять. И покрепче запрятать в себе, чтобы мать не догадалась, что понял.
Ивановский уже высидел докторскую. Облысел окончательно. Брюхо его выползает из-за угла на добрый метр впереди самого профессора Ивановского. Аня его по-прежнему обожает. А статьи Ивановского все еще идут через мать. Мать правит, тасует цифры, укрупняет выводы. Теперь она даже спорит с Ивановским, мать тоже выросла. А этот профессор, запихивая в толстый портфель с амбарным замком готовенькую работу, еще надувается и снисходительно говорит матери:
«Вы, Верочка, единственная думающая машинистка. Если так дальше пойдет, я просто буду вынужден взять вас в соавторы».
Это кажется Ивановскому вопиющей шуткой. Отсмеявшись, он говорил Юрию одно и то же, каждый приезд – одно и то же:
«Убежал от науки, и молодец. Мы все землю, можно сказать, копаем, а ты у нас – вольный служитель муз…»
Чтобы не смущать мать, Юрий неопределенно улыбался профессору Ивановскому, уж этому-то он научился в театре: улыбаться, где требуется по роли. И подавать нужные реплики. Но тут даже реплик не требовалось.
«Редко, редко стал ездить, – отечески журил профессор. – Глядишь, доживем – во МХАТе тебя где-нибудь увидим».
Так вознеся Юрия, профессор Ивановский, наконец, удалялся. Мать долго смотрела в окно, как медленно он идет, прижимая толстый портфель с амбарным замком. Потом сказала:
«Совсем больной стал. Зимой опасались инфаркта. Ты на него не сердись».
«А чего мне сердиться?» – сказал Юрий. «Ему уже шестьдесят седьмой, – напомнила мать. – Ты его и не знаешь совсем. А мы все тут целую жизнь вместе прожили. – Мать вздохнула, добавила: – И меня-то теперь не знаешь».
Читать дальше