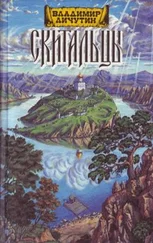Ходко миновали длинные плеса, приткнулись к берегу, днище заскрипело о камешник. А народу на становье — словно цыганский табор заблудился. Костерки маревят, возле каждого своя ватажка друзьяков иль сродственников. Будто нехотя, безразлично, щурясь от дыма, взглядывают на реку, где сплывает с неводом посудина, и, стоя на шатком носу, рыбак цедит водицу, добывая себе со дна золотую рыбку. И в этом ленивом взгляде таится напряженность и ревность к сотоварищу, а вдруг тому пофартит, ведь рыбака одна заря красит. С моря попадает семга по уловам, по каменистым коргам, меж песчаных гривок, по омутам и галечным переборам. Эх, думает, наверное, каждый, иметь бы такую подзорную трубу, чтобы выглядеть, скрасть гулевую серебряную рыбину, окружить ее поплавью, залучить в сетной мешок. А лучше, если стадо сразу окружить, вывалить в лодку, да с тем и домой, не мешкая.
И хоть Васяка тут за своего, в рыбацком стойбище за брата, но редко кто поприветствует, вскинув голову, процедит сквозь зубы, словно бы их залучили за нехорошим, постыдным делом. А и верно, что-то нехорошее чуялось в этом отхожем промысле, тайное и темное, и это нехорошее трогало душу не то чтобы испугом, но стыдом, хотя тут же и уверял рыбак: де, а что тут неприличного, братцы, коли государство обокрало народ середь бела дня, раздело до нитки, выкинуло на улицу, как шелудивого пса, — де, подбирай костомаху, если сыщешь. И если государство с такой наглостью, с таким бесстыдством надсмеялось над христовеньким, то и ему, русскому человеку, осталось одно: плевать в сторону чванливого Кремля сквозь зубы и ядовито цедить самые гнусные брани. Эх, кабы слышал их Ельцин или толстомясый поросенок с заплывшей от жира харею, то, наверное, их сразу бы скукожило, развеяло в невидимый, но гнусный прах. Но бездушных разве заденет горючая слеза, разве ворохнется в ужасе каменное сердце, разве свернется кровь и окаменеет язык, похожий на веселко, коим размешивают в чану кипящую смолу? И этой смолы в глотку тоже наобещивает угрюмый мужик, свернувшийся калачом у костерка, ловящий для сна случайные минуты, вдруг вспомнив дом свой, и бабу с детьми, и долги, что копятся…
И вот эти шелудивые в Кремле талдычат ежедень, обзывая народ русский быдлом, и пьянью, и нероботью, каких мир не видывал с прошлых веков. Брешут злоимцы и ростовщики, кто последнюю копейку вытягивает в свой карман, а он ой какой бездонный, как аидова пропасть; дадут, неискренние, под высокий процент взаймы, а после и имуществом завладеют, и несчастного подведут под суму, иль в разбой, иль в петлю. Они, эти бездушные, и рассылают по миру всякую гиль и лай на православных, только чтобы насолить кормильцу-поильцу покруче, побольнее облаять его, охаять, чтобы долго помнилось и мучительно свербило на сердце от злой напраслины. Его же кусок едят, собаки, да тут же и гадят, немилостивые, сатаны дети…
А ведь более простодушного человека во всей природе не сыскать; русские в Поморье издревле замка не знали, ворота настежь, входи и живи, мирный путник. Если метла к двери прислонена, значит, в соседях хозяева, ушли ненадолго; если в дверной ручке батожок, значит, уехали в другу деревню и напрасно ждать.
И чужого, братцы мои, не трогали, хоть сто лет лежи оно и трухни; кто и покусился когда стянуть у соседа, обнадеявшись на легкую добычу и потерявши ум, того миром всем учили в съезжей избе у старосты, и тот урок помнился до скончания дней.
Но в лесу, но в реке почто не взять? Это Божие, Господь всем сотворил деревину, зверя, птицу и рыбу; пользуйся, христовенький, но с умом, не бери лишку в Христовых кладовых.
… Раньше рыбнадзора побаивались, хитрили, прятались по островам и проливам, жили по древнему обычаю: не пойман — не вор. Если не поймали, значит, Бог подал; поймали — судьба подвела. Знали заранее, где инспектор и что он за душа-человек, иль законченный злодей, иль стяжатель, что родного брата упрячет в тюрьму заради службишки; и весть катилась от деревни к деревне, от избы к избе без спотычки, ибо телефон служил нормально.
А нынче рыбнадзор мужика боится, его злого, напряженного ума, его раскаленного сердца, его глубоких неиссякаемых обид; сбились мужики по ватагам и как бы присвоили реку себе. Не суйся, чужак, со своим уставом, не выдергивай последнего куска изо рта малых деток. Ну, промыслю рыбину или две, а то и десяток, если повезет, так ведь не на Марс отправлю тамошним населыцикам и не в яму срою, но притащу в дом свой, в семью, от которой отступилась родина… Вот и рыбнадзор уже строжиться не может, ибо власти в Кремле потеряли честь и совесть, а он еще не поистратил совсем, лелеет в себе, как последнее человеческое, и, памятуя мысленно о Боге, не имеет силы прижать мужика к ногтю и отдать под суд. Вроде бы закон на его, инспектора, стороне, а житейская правда против него, та Правда Закона, которой из века подчиняется всяк живущий на земле-матери…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу