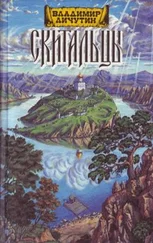Но Григорий Семенович отчего-то не засмеялся, а, вдруг протрезвев, глубоко вздохнул и грустным взглядом обвел разоренную комнату, в которой будто Мамай воевал. И лишь фикус в углу, дремлющий в деревянной кадке, напоминал о недавнем тихом мещанском уюте. Жаль стало покоя, мерности жизни; Господи, чего надо человеку? куда срываемся с нагретого места на ночь глядя, когда жизнь поджимает, сжигает все мосты и оставляет в целости лишь воспоминания? А деньга что? хоть и лопатой греби, хоть до неба сгоноши огромную кучу, но с собою на тот свет не утащишь и здоровья доченьке не выправишь, хоть сгреби под себя все золото мира.
— Мы все впряжены в одно ярмо, в один хомут и бредем по одному замкнутому кругу. Пока не упадем. А тогда в яму — крык! И лисы, и зайцы. Навоз истории, одни воспоминания.
И снова Фридман повеселел, будто ненароком широкой ладонью скользнул по обводам прелестной женщины от плеч до кормы и воровато оглянулся, сглотнул слюнку. Женщины в интересном положении особенно притягливы; это как бы сразу ласкаешь двоих. Миледи улыбнулась и, хотя шалость хозяина понравилась, неловко отстранилась, будто чуяла взгляд Ротмана, достающий через стены.
— А сейчас кого больше — зайцев или лис? — спросила Миледи, чтобы отвлечь Фридмана от блудных мыслей. В животе воркотнулось, затабанило ножкою, напомнило маменьке. Миледи с тревогой вгляделась в коридор. Люся гремела на кухне посудою, словно бы нарочно окопалась там, забыв про гостей, а муж куда-то пропал, улетучился, бросил жену одну.
— Сама рассуди, милая. Вот кто у тебя в пузике? Заяц или лиса?
— Мальчик Алеша, — вдруг открылась Миледи. — Алексей — человек Божий. Я не хочу, чтобы мой сын убегал иль догонял кого-то.
Фридман безмолвно склонился перед Миледи и почтительно возложил пухлую ладонь на купол подрагивающего в нетерпении живота. Миледи отстранилась, проворковала:
— Вы, Григорий Семенович, большой шалун. У вас игривые мысли, да?
Фридман смущенно гмыкнул, словно бы подал кому-то тайный сигнал. Ротман, присев на картонку с книгами, забытый всеми, собрался в черную неприметную грудку, вслушивался в слововерчения, в тихо погудывающую карусель, но беседа, не касаясь его сердца, осыпалась, как жухлая листва. Стылость чужого дома вязала его пуще пут; одно думалось: как бы утянуть отсюда Миледи поскорее и без лишних вопросов? Поначалу шевельнулась ревность, но Иван решительно прогнал ее, посмеявшись над собою. Да и к кому ревновать-то, братцы, к кому?
— Ваня, ты где? — опомнясь, вопросила Миледи в сумрак коридора. Голос был недоуменный, опечалованный, и душа Ротмана сразу встрепенулась, заиграла на свирелях… Боже, какой странный, вздернутый народец эти поэты; все у них на выкрутасах, на вздоре, сердце в шипах, постоянно кровоточит, и всякое чувство впоперечку, вспыхнув однажды, тут же и отвергает себя. Банкиры же сердцем прямы, как штык трехлинейки, но умом изворотливы, как ужи; удачливый потирает плешину на лбу, кого бы еще надуть, а попавший впросак мылит себе лысину на затылке: де, опять надули. С банкиром легче жить, сытнее, но с поэтом интереснее. Вот и рядись, баба, сама с собою, выбирай путь, благонравная…
Иван зашевелился, привстал из-за схорона, на лице — вымученная улыбка; по-стариковски зашаркал к хозяину, пряча взгляд. А Фридман вдруг радостно потянулся навстречу, хищно уцепился за шею, впился в губы, поцеловал так страстно, со чмоком, будто лопнул резиновый шарик. Всем показалось смешно; дружно захихикали, закудахтали, заплескали в ладоши.
Из кухни на шум появилась Люся с глубокой тарелкой; на дне сиротливо покоилась одинокая селедка, разделанная на крупные звенья с явным намеком: де, гостей потчуем, но не приваживаем.
— Бардак кругом. Не обращайте внимания. Два переезда — как один пожар, — сказала Люся и виновато сморщилась. На лице у нее остались лишь выкруглившиеся серо-голубые глаза и хрящеватый нос; постоянная сигаретка сделала свое дело, выпила последние соки. Издали глянуть на хозяйку — молодая курсистка с подрубленными высоко волосами, тонявая, порывистая, сжигаемая внутренним пылом; вблизи посмотреть жалостно и жутковато — словно старая, всеми позабытая фреска. Тонкая шкурка на лице потрескалась, взялась сплошной паутиною; вот-вот наружу полезет изнанка, всякие язвы, свищи, пигментные пятна. Подобных женщин ничто не согревает, даже царская любовь, но все испепливает и выпивает: они живут терзаниями.
Раньше в Люсе наблюдалась некоторая вызывающая бесшабашность; нынче же появилось во взгляде приниженное, подъяремное, будто она приневолена служить могущественному владыке, а бежать от него — отрезаны все пути. А что, братцы, годы итожат, берут свое, меняют сущность, острое в человеке притупляют, особенное скрадывают, чтобы не стало ничего выдающегося, чтобы не вылезал он из смятенного овечьего стада со своей личиною. Женщине в годах куда деваться? на сторону не скинешься, из семьи не побежишь, вот и приноравливайся, бабенька, к своему благоверному, струни себя, поперек батьки не лезь, знай свой шесток, ибо в твои-то годы уже никто не подберет, а коченеть в сиротстве? — уволь, лучше сразу в гробишко, да и забери меня мать сыра земля. Жизнь не задалась, вот и стушевалась женщина, стала серой пришибленной курочкой, а от своей заурядности и вовсе пала духом, не зная, как доклянчить свой век. Вон ведь как… А Фридмана поперло на дрожжах, он раздался во все стороны, ему везде тесно, он — как становой столб, вокруг которого нынче обязаны все крутиться, а она — серая мышка, притороченная к кольцу. И что может эта зверушка? да лишь куснуть пенечком последнего зуба, но и эта ранка станет смертельной для господина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу