Прежде всего он оглянулся на себя и возненавидел свою мелкостную суету, когда пальцами из навозной жижи рассыпанные овсинки выбирал и в горстке, украдкой от домашних, относил петуху, чтоб тот не отрывался от исполнения основных своих обязанностей; возненавидел свой смехотворный почет в волостном масштабе и достигнутое благополучие, сделавшее его псом сторожевым при собственном дворе; возненавидел поросячий визг в закутках, кроткий блеск лампад, укладки ненадеванного добра, оплаченного молодостью; даже зятьев своих смиренных и покладистых, этих даровых батраков, возненавидел он за лошадиное довольство жизнью, сиявшее в их лицах. Близ того времени и перестали у Золотухиных подавать грошики Таиске, потому что отныне и семья нередко ложилась впроголодь; даже с любимца своего, Демидки, посогнал лишний жирок... Между прочим, на первых порах тот вполне оправдывал родительские надежды, но с возрастом начал проявлять неприязнь к коммерции, баловался книжонками, несмотря на отцовские телесные внушения, и вообще заболевал тем видом душевной порчи, что на языке деревни зовется — стал задумываться... Ранняя смерть избавила старика от последнего разочарования в сыне.
Старшему Золотухину было тогда за пятьдесят; это молодость его прошла, а ему-то казалось, что всего лишь сам припоздал к давно начавшемуся разграблению России. Одно лютей другого одолевали его мечтанья — если не чистородное золото, хоть нефтишку бы открыть у себя на огороде или же на ближайших выборах пройти в Государственную думу, где, по народной молве, платили по сотне за заседанье. Вырваться бы на трибунку Таврического дворца да гаркнуть во всю глотку холеным дельцам при манишках и перстнях, с надвое расчесанными бородами — «и мне!» — чтобы раздались, как вода от камня, и поделились барышами. Будучи наслышан о новых веяниях от местного батюшки, о. Тринитатова, лошадника, эсера и подписчика столичных изданий с картинками, — самую принадлежность свою к крестьянскому сословию рассматривая как наследственный титул, Золотухин втихомолку ждал переворота: если при царе нажил кое-что, то уж без оного, как пошинкуют окаянных господ, то-то в полную волюшку рванет он с православных. Оставалось силу копить, чтоб поспеть с дубинкой на великую российскую передележку. Решив заняться лесом после кнышевской науки, он на первых шагах и наметил к освоению сапегинские Заполоски, прилегавшие к усадьбе со стороны Красновершья.
То была чудесная, десятин на шестьсот и, значит, вполне посильная Золотухину роща высокоствольной сосны того сорта, про которую мужики говорят, что из нее третьяк выходит, то есть по три девятиаршинника в чистоте, без порока, сучка и морозобоинки; нависшая над заречными лугами, она как бы сама просилась в воду. Трактирщик и гнался-то вовсе не за прибылью, хотя и вычисленной до гривенника, а единственно для приобретения навыка в руке. Не сомневаясь в успехе, он отправился с задатком к помещице в усадьбу и вернулся без прямого отказа, но вроде бы и ни с чем. Вдова Сапегина соглашалась уступить любую часть своих владений, кроме Заполосков, которые служили естественным заслоном от зимних ветров и паровозных воплей с железной дороги, будивших у ней приступы беспричинной тоски. После вторичного визита Золотухин всерьез обиделся, что чужому, Кнышеву, экий кусок отвалила, а пожалела крупицу для соседа... Так со временем сложилась у старика привычка в праздники, после обедни, наведываться в усадьбу, вздыхать о втуне пропадающем богатстве, со староверским отвращеньем схлебывать с блюдечка горький кофеек и пилить, пилить, подпиливать помаленьку чугунную вдову лестью, ласковой угрозой, нечаянным наведением на всякие ужасающие примеры... И то, бывало, спросит у старухи, застраховано ли имущество на случай поджога, то потрогает петли ставней и с печалью покачает головой. Раз неудовлетворенная, затея превращалась у Золотухина в душевный недуг, наносивший ему неисчислимый убыток; даже задерживал переезд в Шиханов Ям, где присмотрел дом под трактиришко с постоялым двором: шагу теперь сделать не мог, не переступив колдовской черты Заполосков.
С виду он был жилист, высок и худ, с изрезанным морщинами лицом в жидкой, как подсохшие корешки, бороде; голодная тоска светилась из его часто и жалостно мигавших глаз в окаемке рыжих ресниц. Властная с другими, помещица робела в его присутствии, из самосохранения стараясь не глядеть на него подолгу, но прочь не гнала как от боязни нажить такого во враги, так и от болезненного искушения узнавать из первоисточника о настроеньях обступавшего ее отовсюду мужицкого моря. За время пребывания в России она успела убедиться, что нет на свете земли опаснее для собственников, так что никто в ней не может уберечь себя от будущего. Ущербное самочувствие хоть и обрусевшей иностранки и было главным козырем в азартной золотухинской игре.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
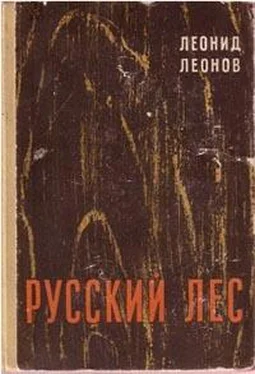





![Леонид Леонов - Вор [издание 1936г.]](/books/33905/leonid-leonov-vor-izdanie-1936g-thumb.webp)



