В последний раз он воротился с заметным облегчением: гульба подходила к концу. Прежде чем пролезть в свою квартиру, он извлек из кармана поношенных плисовых шаровар еле початую бутылку хереса; сам он хереса не пил, а прихватил единственно для невестки, чтоб пригубила с устатку и постигла смак аристократической жизни... Необходимо сказать про Афанасия, что это был не плоше Матвея великан в синей крапчатой рубахе навыпуск, под жилеткой, с тяжким взором и такой смолевой бородищей, что Иван Матвеич всю жизнь ждал случая разузнать, не с дяди ли знаменитый живописец писал мятежного старшину в своем Утре стрелецкой казни.
— Все гудит, гуляка-то? — усмешливо догадалась Агафья, сдувая чайный пар с поднятого на пальцах блюдечка.
— Стихает, речного льда стребовал. С утра прибираться почнем. С игро-ой!
— Богатый, видать, коли гудит.
— У него их ровно щепы, денег-то. Прошлый раз гадальца с собой привозил, теперь пророка при своей особе завел. Первейшего сорта ругатель: веришь ли, аж в мозгу отдается, как сверлильце свое наставит...
— Пошто ж ему ругатель-то, дядя Афанасий? — почтительно спросил Иван, уже в ту пору отличавшийся недетской любознательностью.
— А значит, для прочистки ума... чтоб уличал его беспрестанно: хмель сгоняет. Ну, вроде как заместо хрена, для нюхания, при себе содержит. Купец-то ему, вишь, на обитель обещался капитальцу отвалить, вот старик и лезет из кожи вон, старается.
— Чем же таким он торгует, купец-то твой? — по-прежнему бесстрастно осведомилась Агафья.
— А ничем... он лес зорит. Сказывают, три реки ободрал, четвертую сбирается пустить по миру.
Афанасий и сам понимал, что это не доброе дело — родную землю голить, и даже имел в мечтах поговорить с царем при случае, чтоб навел наконец порядок у себя в державе, однако, в качестве коридорного, невольно преклонялся перед широтой разгула, перед этой ужасной волей к разоренью, в чем и заключалось его существенное отличие от покойного брата Матвея.
Со слов пьяного купцова приказчика Афанасий рассказал присмиревшей родне про начало той удивительной карьеры; десятью годами позже и так же случайно студент Вихров стал свидетелем ее бесславного конца... Выходец из бурлацкого рода, будущий искоренитель лесов сперва ходил с отцом в артели снимать обмелевшие караваны с перекатов, валил заветные помещичьи дубравы, еще красовавшиеся тогда кое-где на Руси, сиживал десятником на чужих катищах — всего хлебнул за свою постылую редьку с квасом. Нужда закинула его весной в низовья Волги, и с этой поры молва приписывала ему изобретение опасного, но доходного промысла, так называемых мартышек. Полая вода разбивала сплавляемые плоты о берега, рвала на прибрежных корягах, так что к концу пути от них нередко оставалось лишь обезличенное, шедшее россыпью, ничейное бревно. Речная голытьба ловила его в расставленные кошели и вторично продавала владельцам сплавных билетов. Вороватый и сметливый, этот человек в три года подмял окрестную мелюзгу и по ее скрюченным, ревматическим спинам вышел в щуки всероссийского значения. Заблаговременный подкуп плотовщиков в целях облегченной вязки удваивал добычу хищника... и вдруг он бросил реку. Рост промышленности и возраставший спрос на лесные товары погнали его как бесноватого с топором по лесам скудевшего дворянства. В отличие от известного в ту пору лесопромышленника Сукина, проредившего леса от Олонца до Пскова, или Афанасьева, вырубавшего центральные губернии, Кнышев подобно коршуну кружил над всей Россией, высматривая наиболее лакомые куски; только хрип древесного падения мог утолить его страшный зуд. Холодный пожар тем быстрей двинулся по русскому лесу, что обнищалое крестьянство легко поддавалось на приманку зимнего заработка. Мужики подпрягались к заморенным савраскам, помогая купцу сдирать зеленый коврик с родной земли. Было что-то символическое в образе терпеливого крестьянского коняги, как в морозный денек, весь дрожа, словно струна, исходя паром с натуги, рвался он из хомутишка да веревочной сбруи, из самой кожи своей, и валился под кнутом, кормилец, и потом его волочили на господскую псарню по целковому за животину. Таким образом, нередко к исходу рубки у мужиков не оставалось ни хлеба, ни леса, ни коня, и — тогда вразброд, с чем придется, бросались на обманщиков. Гул рассекающих воздух кольев сменялся последовательно скрипом судейских перьев, звоном цепей, женским плачем, но все это перекрывал лязг торжествующего топора.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
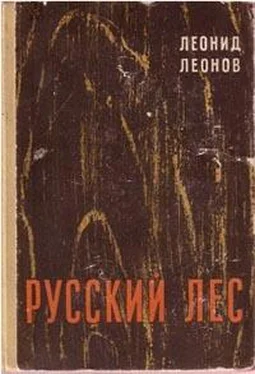





![Леонид Леонов - Вор [издание 1936г.]](/books/33905/leonid-leonov-vor-izdanie-1936g-thumb.webp)



