Я был вне себя. Как Лэ могла забыть, что мы сняли комнату только на одну ночь, что надо было освободить ее в одиннадцать часов, что мы пока даже не представляли, где остановимся потом. Вместо того чтобы снова прилечь ненадолго, что я собирался сделать и в чем весьма нуждался, мне пришлось пуститься на поиски другого жилья поблизости. В связи с праздниками все гостиницы были переполнены. Я все же нашел in extremis комнатку на двадцатом этаже Вашингтон-отеля, совсем нового и сверкающего на солнце, как красивый белый пакетбот. В одиннадцать часов, уплатив по счету в Кейо Плазе, я сам перенес наш багаж. Устроившись в «пакетботе» (где, кстати, довольно маленькие окошки напоминали иллюминаторы), окинув долгим взглядом крыши и небоскребы, на которые с этой высоты открывался великолепный вид, я прилег на минуту — это было тем более естественно, что кровать занимала две трети комнаты и нельзя было, так сказать, ее избежать. И вот какая ужасная вещь со мной произошла: я сразу погрузился в глубокий сон, от которого пробудился — внезапно — только к 14:30. Я побежал в Кейо Плаза. Ее не было — или она уже ушла, — хотя никто, ни горничные, ни портье, не мог мне сказать, заходила она или нет. Во всяком случае, она не оставила записки ни в номере, ни внизу. Последний шанс встречи был упущен. Я бросился в «Кафе де Пари»: девушки с Мартиники там не было. Все связи между нами порвались. Мне представилось, что Лэ, как несчастный космонавт из «Космической одиссеи-2001» в тот момент, когда злобный робот перерезает последний кабель, соединяющий его — космонавта — с кораблем, с головокружительной скоростью навсегда исчезает в бесконечной ночи.
Зря я все это рассказываю. К горлу мне подступают в порядке или скорее в беспорядке их появления противоречивые чувства и импульсы, которые мучительно завладели мной на несколько дней, — тогда. Сначала впечатление огромного нелепого провала, во-первых, потому что эта поездка обошлась весьма дорого, и, так как дату возвращения изменить было нельзя, мне предстояло убить три недели — три недели без Лэ, в Японии, которую я мечтал открыть для себя с ней, ее глазами, и которая, когда она исчезла, уже ничем меня не привлекала. Эта поездка была — не без колебаний прибегаю к настолько помпезному выражению — своего рода эксперимент, последний шанс спасения нашей пары. Позади был довольно мрачный период, полный ссор и побегов (прежде всего ее побегов, но и сам я специально исчез на несколько дней, чтобы наказать ее, обеспокоить — должен признаться, с весьма относительным успехом). Уехать в Японию, подальше от других ее любовников, действительных или предполагаемых, в страну, в которой она никого не знала, — это значило, что теперь все шансы на моей стороне и наша история начинается сначала. Кроме того, ее полное незнание страны — она разве что отличала Японию от Китая — и иностранных языков: она была полностью в моей власти, в нежной зависимости ребенка или ученицы, которая столь способствует сближению. И это путешествие, которое должно было стать чередой счастливых моментов для нас обоих, а для нее хранилищем восхищенных воспоминаний, где я навсегда останусь — я один! — как на фотографиях, которые она обязательно сделает, — это путешествие примирения и завоевания начиналось как путешествие вдовца, с грусти и одиночества. Отсюда досада, которая меня регулярно охватывала с силой, равной моему бессилию: я разбивал или пытался разбить все пепельницы в номере — это практически единственные непривинченные предметы в японских гостиницах, спроектированных в расчете на землетрясение.
Немного позднее, когда я увиделся с мартиниканской официанткой и та сообщила мне, похоже не думая о боли, которую может мне причинить, что Летиция «сейчас с японцем, который говорит по-французски», эпизодическим клиентом кафе, «он и за мной несколько раз пытался приударить», я почувствовал приступ холодного бешенства, я представил себе — воображая сцену ее возвращения, увы! все более и более маловероятного, — что я плюну ей в лицо, дам пощечину, повалю на землю и изобью. Мне даже пришлось взяться за блокнот, в котором я в самые невыносимые моменты начинал яростно царапать строчки, и вынести ей смертный приговор — реакция скорее литературная, чем действительно продуманная, мне было бы невыносимо трудно перейти к действию, я в жизни и мухи не обидел.
И все же мои чувства не были столь жестоки. Я забыл о главном — о нежности. Смешанные боль и нежность — как это выразить? Нежная боль? Страдание глухое и благодетельное, колющая боль, как при стенокардии, долгие минуты, когда сознание погружается в чуткий сон между эйфорией и прострацией, когда злость постепенно уступает место огромной нежности, мечтам, в которых все — свершается доверчиво и пылко, и в невыразимости бесконечной любви. В такие минуты я был готов все простить, даже умолять на коленях.
Читать дальше
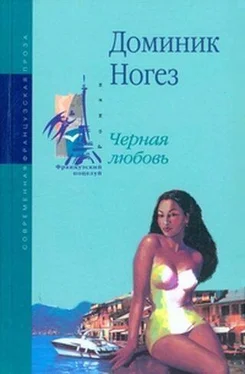





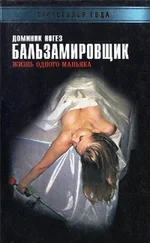
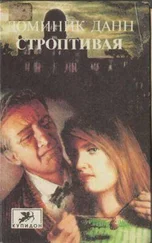
![Доминик Дюран - Коммунизм своими руками [Образ аграрных коммун в Советской России]](/books/420532/dominik-dyuran-kommunizm-svoimi-rukami-obraz-agrar-thumb.webp)



