Когда Алексей Петрович вернулся, пепельноликая Балабанова, оторвавшись от пластикового корытца, оборотила к нему свои раскосые щенячьи глаза — сейчас сгущённое молоко, — и, залезши тупо-палой щепотью в западный закоулок переносицы (отчего приподнялась черепаховая очешная дужка), обратилась к утреннему чтению: поглощению вприкуску итальянского перевода крупнокалиберного Калибана Мирводова, там, где сначала про похождения Семмельвейса, а после — об английской горничной, становящейся, через пару страниц, в матримониальных авторских целях, ирландкой и, естественно, католичкой — так полёт пера, этого средоточия души писателя, опережает его же взор, а плетущийся ум и подавно: куда тебе, подёнщицкая тень Ахилла, со мною, Балдою, носиться, обгони-ка ты мою меньшую сестрицу! Step — step — step ! Ха!
Самолёт ринулся вниз, точно ведьма, стержнем ухвата нацелившаяся в де Голлев содом. Балабанова заткнула уши сводчатотыльными конусами-альбиносами, отбросивши порожнюю коробку с псевдоготическим заверением: «Protezioni uditive in cera naturale». Теперь ясно виднелся её белорусский стоячий воротничок, вышитый жёлтым и зелёным орнаментом на кикладский лад, позаимствованный впоследствии Ивом Сен-Лораном для своей коллекции, перед тем как прямиком отправиться в ад: возвращение к геометрии, и то верно — треть Великого Хазара позади! Хрюк!
Стюардесса осклабилась на Алексея Петровича, похлопала себя по паху, пригласительно, точно кит, зазывающий в себя, и он покладисто сковал себя пряжкой, молниеносно зазолотившейся под Солнцем, уже осоловелым от утреннего хмеля, — чтобы рассмотреть его основательно: нежный, розоватый в червонных космах обод, глубже (белый лунь сатанеющий лавой пробирающихся в самые недра зрачков) надо обуздать дичающие от муки глаза, сильнее, нежели когда отслаиваешь созвездие Грааля от полуночных киммерийских небес. Хотелось узнать, который час, но лучезапястный сустав чавкающей Балабановой прожигал огненный чирий, делающий время недоступным, отчего спесивилось, лазоревея и пламенея, пространство, безумно ровно разлиновывая Францию прямоугольниками, так что жаждалось разметать её доселе вымуштрованные рубежи к чертям (уезжанным, сонным, прикрывающимся, гримасничая, от света лапками, поднося их к козырькам швабского картуза), пролетавшим над Алексеем Петровичем вместе с колдуном в ступе да парой ворон — нижняя, точно тень товарки, передразнивала её каждым взмахом крыл, и даже резкой пуховой оторочкой этих крыльев.
Вялой своей лапой Балабанова принимала по три ветчинных ломтя, переплетала их с кольцами бекона и, изумительно громогласно хрюкая, отправляла трепетноанусный свиток себе в пасть, не приминувши отогнуть мизинец, который тотчас по избавлении от ноши втискивался меж потрёпанных потрохов Мирводова, в свою очередь сыпавшего от удовольствия микроскопической бумажной пылью — манной на круассаны мегере-кухарке, так и не нашедшей себе государства.
Алексей Петрович преисполнился наидрагоценнейшим из своих ощущений — утренним предбитвенным малодушием (съёживанием психеи!), когда кожа не приемлет ножа: предстоит атака, перед тобой, поэт, полчища под штандартами твоего же Господа, завлекающего тебя дивно диким, протяжным завыванием улиткообразной волторны той расы, чей стон крушит палестинские крепости, а златокудрый европейский самодержец, твой чернокнижник-единоверец, далеко впереди, один — Один, ас поднебесной эскадрильи на вечно спотыкающемся своём скакуне, — а над полем нависла, торжествуя жатву, с персеевой серпеткой в кулачище (будто с герба цюрихского Рисбаха фукнутой), да расплёскивая свою кровавую благодать, — венценосное Светило-о-о! «О-о-о-о! Хайро! Хай! Хайль! Хейм! Далльр! Ррраззарничный Гай! Кайзаре! Впитай трёхъязыкий мой вой: Иууууууууууу! Лианой — не цепью! — опутай-ка нас! Хай! Вечная женщина! Вплети нас в косу! Косичкин! Скоси! Сожни! Гей-Гей! — Гей-Гей-Гей! Лиэй! Тебе предстоит связывать и развязывать! Тебя кличу впервые на мой полуоскифованный, полуосфинксованный лад! Да! Дий! Гей! Ге! Га-а! Гайяяяяя! Дай же мне славить тебя по-моему! Дай! Най-Най-иа-а-а-я! И твою вороную, белым пятном на лбу меченую ипостась! Теперь всюду май! Нада-а-а-а-а! Восстановить всецарство твоё! Привить гены Гермогена! Говоришь… Прок? Опий! Миллионам! Сбереги же мне жизнь для побоища с пером в щепоти, с кольцом твоей митры на моей, неисправимо волосатой груди, да скользкой от ежеутреннего бритья щеке. Отец мой, Гени… Геноте… тьфу! Гелий! Гелиос! Ось! Ась?! И ты, что скрываешься за ним — ты, Митрррр! Рра-а-а-а-а! Я — твой митрополит! Помажь же меня на кесарство твоим благодатным взором! Впитай меня, Господи! Время пришло! Табань, мгновение! Мой кремль — кремлёвник твой! Возьми ж меня к себе-е-е-е-е! С собой! Сссссабай-айя-я-ккосссс! Змеешипая мудрость! Прибей моё солнечное ретивое к хвоедышащей кресто-о-о-о! Вине! Да сыграй на нём сказ о чарах Чары! Датты! Митра! Я — плоть от плоти твоей! О! Там! босс!.. И я ви… На! Хххто-о-о! видел его — видел меня! Впрочем, этосссм!..» — мягкая барсова судорога пронизала и вдруг оставила выпрямившийся самолёт; Лютеция залилась с полуденной стороны порфирой; фламандцы, блеявшие «Боже, спаси Америку», зааплодировали; Балабанова опрокинулась на спинку, безуспешно норовя упасть навзничь, расчленяя Калибана на виноградные строчки, на исконные буквы и, корчась, жевала свои восковые затычки, захлёбывалась в рыданиях слаще мальвазии да вздымала к Солнцу раскрытую десницу, словно, обыгравши Пьера, салютовала наконец вернувшемуся святому Дуку! У-у-у! У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Приветствуя его по-русски! По пушкинским канонам!
Читать дальше
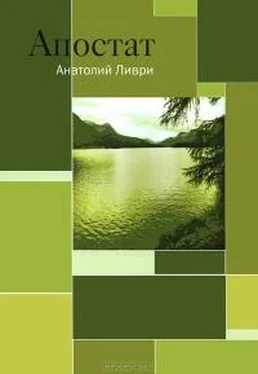

![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](/books/77555/anatolij-livri-ecce-homo-rasskazy-thumb.webp)







