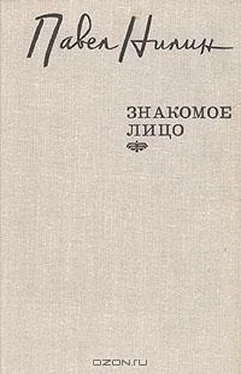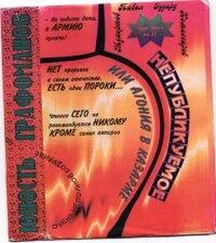А тогда, в тот далекий, на редкость тоскливый вечер, когда мы не попали на репетицию и острый запах паленых волос и удивительно пахучей пудры преследовал нас и на улице, я озлоблен был на несправедливость судьбы.
Весь остаток вечера я не мог найти себе подходящего занятия. Я не мог ни читать, ни играть в шашки. Да и играть было не с кем.
Венька, когда мы пришли домой, сразу сел писать письмо матери. И писал его долго. Потом заклеил конверт и понес бросить в почтовый ящик. Глаза у него были задумчивые.
Я сказал внезапно, должно быть нарушив его настроение:
— А все-таки, ты знаешь, Венька, работа у нас, вот я думаю сейчас, очень неважная. Хуже, наверно, ни у кого нету…
Венька посмотрел на меня недоуменно.
— Работа тебе не нравится? Ну что ж, можешь бросить…
— Да не в том дело, — смутился я. — Но ведь правда, у нас такая работа, что мы все время точно неприкаянные. А вот такой человек, как Узелков, везде пройдет…
— Брось ты этого Узелкова. Надоело, — поморщился Венька. И вышел на улицу, унес письмо.
Вернувшись, он сейчас же разделся и лег спать. Я тоже лег и погасил лампу. И уже впотьмах спросил:
— А как ты считаешь: если мы, допустим, не запишемся в рабфак, но будем читать только те книги, которые проходят в рабфаке, можем мы получить такое же образование, как все?
— Утром поговорим, — сказал Венька.
Утром на пустыре наш начальник оглядывал уже восстановленные полностью аэросани. Пахнущие свежей краской, они стояли на пушистом снегу, как гигантский кузнечик. И начальник, похлопывая по их темно—зеленому корпусу, говорил:
— Теперь мы сможем пройти куда хочешь. В любую погоду. Сможем прощупать медведя в самой его берлоге, когда он нас и не ждет вовсе…
— За проходимость этих саней я теперь целиком и полностью ручаюсь, — заверял начальника, вытирая паклей руки, механик. — Везде, повсеместно пройдут…
— Как Узелков, — подмигнул мне Венька. И я понял, что он ночью тоже думал об Узелкове, но только, может быть, из самолюбия не хотел лишний раз говорить об этом.
А сейчас сказал и улыбнулся. И я улыбнулся. И в ту же минуту Узелков как будто перестал интересовать нас.
Нам опять было некогда. Начальник собирал, как он говорил, весьма ответственную экспедицию в Воеводский угол.
Мы с Венькой побежали домой, чтобы одеться потеплее.
У ворот уголовного розыска Веньку, задержал наш сухопарый фельдшер Поляков.
— Я хочу, товарищ Малышев, сегодня еще раз посмотреть твое плечо. И еще я намереваюсь показать тебя приезжему доктору Гинзбургу…
— Некогда мне, Роман Федорович, — сказал Венька. — Я уезжаю сейчас, сию минуту…
— Ну, тогда смотри! — погрозил Поляков. — Я в таком случае снимаю с себя всякую ответственность…
— Снимайте, — весело сказал Венька.
Уже самая возможность дальней поездки на аэросанях воспламенила нас.
Венька боялся, что Поляков, осмотрев его плечо, помешает ему поехать в Воеводский угол.
Мы забыли обо всем, когда наконец, тепло одетые, уселись в эти необыкновенные сани.
Механик, уже облаченный в шоколадного цвета кожаное пальто, застегнул на подбородке две пуговицы от кожаного же шлема, натянул только что выданные рукавицы с длинными отворотами, нажал ногой на рубчатую педаль, передвинул рычаг с костяным набалдашником. И сани, осторожно выкатившись из города, вдруг с хрустом, с треском и завыванием помчались по необозримой снежной поляне, оставляя позади себя на пушистом снегу тройной след от широких лыж.
Нет — казалось мне в детстве, в ранней юности и кажется до сих пор, уже изрядно побродившему по разным краям, — нет на свете красоты, способной затмить в нашей памяти красоту, и величие, и волшебство могучей сибирской природы.
Даже зимой, когда леса и реки, равнины и горы укрыты снегами и охвачены крепчайшими морозами, сам простор неоглядный вселяет в душу невыразимую радость, внушает бодрость и настраивает на особо торжественный лад.
Где-то в глубине тайги, в глухих чащобах, под укрытием из смолистых коряжин или каменных плит, расщепленных дождями, и ветрами, и морозами, притаились до поры в своих душных берлогах матерые медведи. И так же до поры до времени притаился где-то здесь в снегах со своей неуловимой многочисленной бандой знаменитый Костя Воронцов, неустрашимый кулацкий сын, «император всея тайги», как он сам называет себя то ли в шутку, то ли всерьез.
Только пар от медвежьего дыхания, оседающий подле берлоги и мгновенно застывающий в морозные дни в виде блесток пушистого белого инея, показывает, где величественно почивают медведи. И все население тайги — и косуля, и заяц, и лиса — почтительно и робко обходит жилища хозяев леса.
Читать дальше