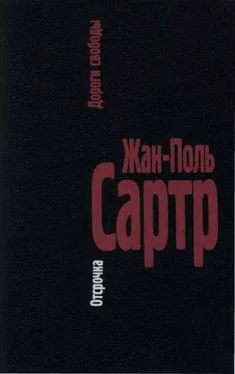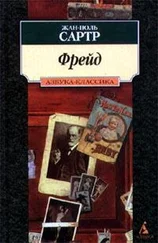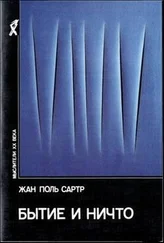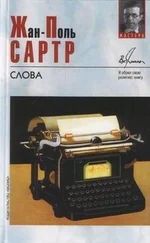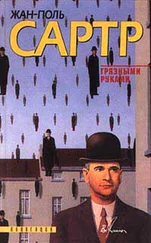— Неплохая мысль.
Слесарь и наборщик вынули из рюкзаков бутылки; слесарь отпил из горлышка и протянул свою бутылку скрипачу:
— Глотни-ка!
— Не сейчас.
— Много ты понимаешь.
Они замолчали, изнемогая от жары. Слесарь надул щеки и тихо вздохнул, стряпчий закурил «Хайлайф». Матье думал: «Я им не нравлюсь, они считают меня гордым» Однако они были ему интересны, даже спящие, даже стряпчий; они зевали, спали, играли в карты, качка раскачивала их пустые головы, но у них была судьба, как у королей, как у мертвых. Изнуряющая судьба, которая смешивалась с жарой, усталостью и жужжанием мух: вагон, закрытый, как парильня, забаррикадированный солнцем, скоростью, покачиваясь, уносил их к одному и тому же испытанию. Блеск света окаймлял пунцовое ухо наборщика; мочка уха была похожа на кровавую землянику. «Это ими делают войну», — подумал Матье. До сих пор она ему представлялась переплетением искореженной стали, разбитых балок, чугуна и камня. Сейчас кровь дрожала в лучах солнца, рыжий свет заполнил вагон: война будет кровавой судьбой; ее будут вести кровью этих шести человек, кровью, застаивающейся в их мочках, кровью, которая, голубея, текла под их кожей, кровью их губ. Их раскроют, как бурдюки, все отбросы выскочат наружу; резвые кишки слесаря, которые урчали и иногда выпускали газы, будут волочиться в пыли, трагические, как кишки вспоротой на арене лошади.
— Что ж! Пойду разомну ноги, — сказал как бы сам себе наборщик, Матье посмотрел, как он встает и идет к коридору: эта фраза была уже исторической. Ее вполголоса произнес мертвец одним летним днем, еще будучи живым. Мертвец или, что одно и то же, выживший. Мертвецы — уже мертвецы. Оттого-то мне и нечего им сказать. Он смотрел на них с каким-то головокружением, он хотел бы быть втянутым в их великое историческое испытание, но он был исключен. Он загнивал в их жаре, он будет обливаться кровью на тех же дорогах, и однако он был не с ними, он был только бледным и вечным сиянием: у него не было судьбы.
Наборщик, куривший в коридоре, вдруг повернулся к ним.
— Самолеты. — А?
Стряпчий наклонился. Его грудь касалась толстых ляжек, и он поднимал голову и брови. — Где?
— Там, там! Бомбардировщики.
— Я…А! Ого…Ого! Скажи-ка, — пробормотал слесарь.
— Это французы? — спросил скрипач, поднимая на наборщика красивые блуждающие глаза.
— Они высоко, не видно.
— Конечно, французы, — сказал слесарь. — Кому же еще быть? Война пока не объявлена.
Наборщик наклонился к ним, держась двумя руками за косяки.
— Что ты об этом знаешь? Ты уже одиннадцать часов сидишь в поезде. Ты, может быть, думаешь, что все подождут, пока ты приедешь, и тогда объявят ее?
Слесарь, казалось, изумился:
— Черт! Ты прав, чертенок. Слушайте, ребята, а может, мы уже с утра воюем?
Они повернулись к стряпчему.
— Что вы скажете? Вы думаете, война уже началась? У стряпчего был мирный вид. Он высокомерно пожал
плечами:
— Что вы выдумываете? Неужели мы пойдем воевать за Чехословакию? Вы ее видели на карте, эту Чехословакию? Нет? А я видел. И не раз. Дерьмо это, вот что. И размером с носовой платок. Там, может быть, жалких миллиона два, которые даже не говорят на одном языке. Вы рассуждаете о том, плюет ли Гитлер на Чехословакию. А Даладье? Прежде всего Даладье — это не Даладье: это двести семей. И эти двести семей тошнит от Чехословакии.
Он пробежал взглядом по своей аудитории и заключил:
— Дело в том, что и у нас, и у них все назревало с тридцать шестого года. И что тогда сделали Чемберлены, Гитлеры и Даладье? Они решили: «Этих людей мы заставим замолчать», и они заключили хороший секретный договорчик. Гитлер придумал такую штуку: когда рабочие буянят, загнать их на военную службу. Вот так, молчок, рот на замок. Будешь рыпаться — два часа на плацу. Будешь еще рыпаться? Схлопочешь шесть часов. После этого парни на коленях, они думают только о том, чтобы завалиться спать. Ладно, другие министры решили: «Сделаем, как он». И вот итог: войны нет и в помине. Ни ради Чехословакии, ни ради кого-нибудь еще — хоть турецкого султана. Только мы мобилизованы, потянут три, четыре года, а за это время там, в тылу, сломают хребет пролетариату.
Они растерянно смотрели на него; они не слишком ему верили, или, может быть, не совсем его поняли. Слесарь философски заметил:
— Одно ясно — паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Скрипач одобрительно покачал головой, и они погрузились в молчание, наборщик отвернулся и приник лбом к одному из больших оконных стекол коридора. «Очевидно, — подумал Матье, — они не горят желанием воевать». Он думал о людях четырнадцатого года, об их широко раскрытых глотках и ружьях, украшенных цветами. Ну и что дальше? Правы эти. Они говорят пословицами, но слова их выдают, в их голове есть нечто, что не может быть выражено словами. Их отцы участвовали в бессмысленном побоище, и вот уже двадцать лет им объясняют, что война — это разорение. После этого от них хотят, чтобы они кричали: «На Берлин!» Тем не менее, все, что они говорили, все, что они думали, не имело никакого значения: крошечные тайные мерцания на полях их судьбы. Скоро будут говорить: «солдаты тридцать восьмого года», как говорили: «солдаты одиннадцатого года», «солдаты четырнадцатого года». Они будут рыть траншеи, как другие, не лучше, не хуже, а потом лягут в них, потому что таков их жребий. «А ты! — вдруг подумал он. — Что ты лезешь в свидетели, хотя никто тебя об этом не просил; кто ты? Что ты там будешь делать? И если ты выживешь, кем ты станешь?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу