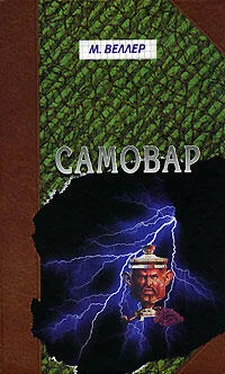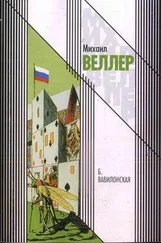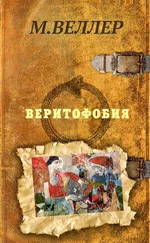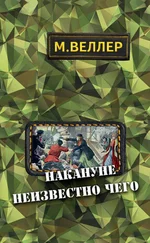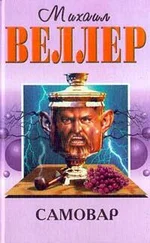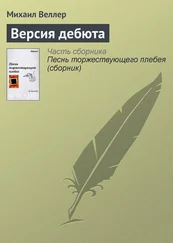Нет, теперь он маху не даст. На собственной шкуре научился, взять хоть его самого. Вот, скажем, родился Гагарин в 1935 году. Старик в том году уже был директором завода, Каведе – молодым сержантом НКВД, Жора вступил в КИМ – Коммунистический Интернационал Молодежи, как тогда назывался комсомол. Прямо-таки преемственность поколений, только интервал был упрессован обвалом времени с двадцати пяти лет, как обычно считают историки поколение, до десяти, от силы двенадцати. Десяток и дюжина – одна, в сущности, единица в разных системах счета.
Поэт Багрицкий неслучайно (и не для рифмы, писать он умел) настаивал, что именно «десять лет разницы – это пустяки», и неслучайно это именно «разговор», и с «комсомольцем», и о «войне». Сознательно он, надо полагать, никакого особого глобального смысла в то, что именно «десять лет», в виду не имел. Но тем поэт и характерен, что через него эпоха являет свои истины.
– Едем мы, друзья, в дальние края, станем новоселами и ты, и я! – Сколько жизни звучало в громах над нами.
Сорокалетие освоения Целины не очень отмечалось, не до него тут; и Гагарин это переживал. На войну он не успел, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки! и, стало быть, в юности понял, что смысл его жизни в том, чтобы поднять Целину. Распахать бескрайнюю нетронутую степь – заколышет тучная нива золотое литье до горизонта. Встанут белые города, задымят заводы, давая счастливое изобилие стране.
В теплушках ведь ехали, под кумачовыми лозунгами. Под ледяным ветром гремели палатки в мартовской степи. В землепашестве смыслили, как свинья в апельсинах.
Это он здесь уже досоображался, что мирно сопящий рядом Каведе за двадцать лет до того всех природных крестьян, кто понимал землю, выморозил в Арктике, выморил в лагерях. Ну, кого не сам, тех коллеги-товарищи, почетные чекисты, серебряные щиты. И чем больше знаешь, тем меньше во всем смысла.
В смысле Целины Гагарин – которого тогда Гагариным, естественно, никто не звал, за отсутствием к тому причины и повода, а звали Юрой Белкиным – разочаровался довольно быстро. Он как-то самостоятельно, не формулируя, пришел к чеховскому выводу об идиотизме сельской жизни. Не, ребята, пахать и сеять и жать не по погоде, а по команде – это кайф. Это нечто.
Но результат – это одно, а моральный смысл его достижения – это другое. Как это там у Бернштейна (или это ренегат Каутский?): «Движение – это все, конечная цель – ничто». Понял-нет? Конечной целью оказались песчаные бури и, через восемь лет всего, пожизненные закупки зерна в Америке – но моральный смысл ощущался в том, чтобы реализовать силы молодости для мощи и процветания Родины. Радуюсь (радуюсь!) я – это мой труд вливается в труд моей республики. Однако запас сил даже у молодости ограничен все-таки, в отличие от пути к процветанию Родины, который ну решительно же бесконечен, бьешься-бьешься – не цветет, собака. Может, дустом попробовать?
И еще не Гагарин, стало быть, а Юра Белкин, попав в армию, решил поступать в военное училище. Пусть он разочаровался в Целине, но не принципиально в романтике как таковой. Романтизм ведь качество внутреннее, и требует внешней точки приложения.
Это был тоже, знаете, конфликт эпохи. Романтизм поощрялся единоразово: бросить город, удобства, родных, все, – и уехать по зову Партии в степь (пустыню, тундру, тайгу, нужное подчеркнуть). После этого романтизм надлежало сбросить, как муравьиная самка сбрасывает одноразовые крылья, и пахать дисциплинированно на одном месте. А крылья сдать в Музей трудовой славы, чтоб на их примере учить новую молодежь героизму.
А которые имели нерегламентированный, сверхлимитный романтизм вечно менять местожительство в жажде нового – для тех был отрицательный термин «летун», и их пресекали сниманием с очереди на квартиру и лишением прочих социальных благ, льгот и надбавок.
Романтизм Юры Белкина жаждал крыльев, на крыль ях нарисовались красные звезды, порыв обрел военную ипостась, и он, стало быть, решил стать защитником Родины, воином. Офицером. Есть такая профессия – Родину защищать. Лучше всего – летчиком. Романтика в квадрате.
Ближайшим летным училищем было Кокчетавское, и военком выписал ему проездные документы – была разнарядка, и он стал курсантом-летчиком.
Махну серебряным тебе крылом.
Все выше, и выше, и выше.
А вместо сердца пламенный мотор.
А город подумал – ученья идут.
Среднестатистический советский военный летчик – это старший лейтенант или капитан двадцати девяти-тридцати лет. Основное рабочее звено.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу