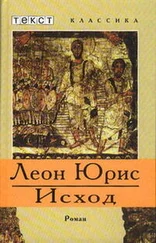Они пришли брать урожаи штурмом, как Зимний дворец в семнадцатом году, грозя маузером направо и налево, в том числе погоде, крестьянам, скоту, временам года. Их, «двадцатипятитысячников» — почти всех — ненавидели на селе, не смея перечить, подчиняясь неотвратимой силе репрессивной машины, стоящей за их кожаными фигурами, злобно смиряясь перед ненасытно-кровожадным режимом проклятых, бессмертных вождей — всех этих Лениных, Сталиных, Свердловых-Янкелей, Троцких-Бронштейнов, Зиновьевых Герш Ароновичей, Каменевых-Розенфельдов, Ганецких, Володарских-Когенов, Мартовых-Цедербаумов и Луначарских-Байлихов, посланных на землю самим дьяволом; но иной раз крестьяне, распираемые этой ненавистью до затмения ума, самоубийственно хватались за вилы и шли на супостатов врукопашную, и погибали; большинство же терпело, тоскливо глядя в землю, у них отобранную, или в небо, из которого сбежал Бог. По-разному ненавидели, короче говоря.
Много «двадцатипятитысячников» так и не вернулись больше в свои города. Одни были убиты крестьянами за попытку заточить их в рабскую неволю — называйся она хоть социализмом, хоть коммунистическим интернационалом; иных пролетарских председателей, хронически не выполняющих планы поставок сельхозпродукции, расстреляла недрогнувшей рукой сама пославшая их в деревню Партия — с беспощадной формулировкой: «За вредительство и саботаж». Остальные постепенно спились, или слились с фоном и растворились в крестьянской массе.
Рукавишников был совсем другой. Уже потому хотя бы, что в нем сочетался и романтик, и хозяйственник, но и пролетарий со здоровыми, историческими крестьянскими корнями, который разглядел однажды, участвуя в продзаготовительных рейдах карательную суть этих чекистско-пролетарских грабительских набегов вооруженных отрядов на село. Тогда он увидел своими глазами, во что превратила великая октябрьская социалистическая революция деревню-кормилицу, что сотворила с ней, до чего довела ее… По внутреннему зову содрогнувшейся души тридцатилетний сцепщик вагонов Рукавишников добровольно запросился туда, во мрак деревенской беды, чтобы хоть так, собственными силами, хоть в какой-то мере оплатить деревне по непредъявленному ею счету — по счету собственной совести. Таковы были его горькие внутренние мотивы, о которых он много не рассуждал даже наедине с самим собой, и ни с кем не делился. То было его личное дело. Возможно, что именно из такого сорта людей возникали в прошлом, в среде молодого, революционного брожения «народники» — наивные люди, желающие принести народу счастье в готовом виде и на серебряном подносе: «Мы все сделаем для вас, сельские братья! Мы поубиваем всех сатрапов и пригласим вас к праздничному столу!». Далеко не все из них готовы были при этом резать царей и рушить все «до основания». Далеко не все из них были кретинами. Только желание помочь деревне было в них искренним. Идея о том, что лучшая помощь — не лезть и не мешать, была им чужда. Столь же искренним, но противоположно заряженным была ненависть большевиков к крестьянам. Каким-то сложным образом сочетал в себе Рукавишников веру в Партию с неприятием того, что она творит, прежде всего в отношении к деревни. Не сразу, не сразу рассмотрела Партия в нем эту сложность.
Что там себе думал, отбывая в деревню, Иван Рукавишников о коллективизации, индустриализации, мировой революции и советской власти — Партия этого не знала. Рукавишников высказывался на эти темы кратко, точно, в объеме обязательного идеологического минимума, требуемого и ожидаемого от советского руководителя. Рукавишников говорил в основном о деле. «Затаившийся»: таким клеймом припечатала бы его Партия, разгляди она истинные мотивы его служения селу. Но Партия их не разглядела, и Рукавишникову удалось стать своим в «Степном»: своим и необходимым — командиром, вождем и другом. Хозяйство росло и кормило страну, и Партия, не рассмотрев врага в Рукавишникове, не мешала «Степному» кормить себя. Рукавишников, получается, дурил Партию: он был с ней неискренен. Иногда, в общении с ней, он использовал подвешенность языка, природный свой артистизм и умение точно формулировать мысли, иногда же — и чаще всего — благоразумно помалкивал. Он был умен, этот Рукавишников.
И еще тем отличался Рукавишников от традиционной пролетарской массы, что был очень начитан. Книг в его доме было больше, чем Аугусту доведется увидеть за жизнь во многих жилищах высоколобых демагогов. Рукавишников, хотя и окончил всего семь классов, но, как он любил шутить — успел взять на вооружение самое основное: мораль из «Преступления и наказания» и тему «проценты» из математики. И объяснял с улыбкой: от новоиспеченных председателей Партия постоянно требовала повысить отдачу то на десять, то на пятьдесят процентов, и все с революционным задором обещали: «Увеличим на двадцать!», или «Дадим все сто!». А когда Рукавишников переводил малограмотным руководителям хозяйств все это на язык абсолютных цифр, то те хватались кто за голову, а кто и за наган с воплем: «Врешь, контра! Столько не может быть!». После чего пытались, большей частью безуспешно, поднять в дополнительную трудовую атаку стариков, баб и детей, преодолевая сопротивление немногочисленных мужиков, уцелевших на деревне после раскулачиваний, голодных бунтов и призывов в Красную армию. Несладко приходилось многим председателям в результате. «А я вот выжил благодаря арифметике», — шутил Рукавишников, — пока каждый шаг на счетах не просчитаю — до ветра не выйду».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу