Наконец он отдёрнулся от витрины и, загребая ногами, неторопливо направился к нам.
— А… привет… ну что? — он как бы сосредоточенно сморщился, выражая внимание.
— Всё! — яростно вымолвил я. — Опоздал, начался сеанс! Продали твой билет!
— Как?! — он был потрясён.
…Да, конечно… от такого подхода к жизни счастья светило немного, и мать была права, повторяя: «Блаженный!» На старости лет оказался в бараке! Но постоянной его задумчивости можно и позавидовать, — выходил он из задумчивости всегда довольный!
Помню его весёлые рассказы о том, как в молодости он, читая, налетел на столб, как выбил молодой, но уже лысой головой стекло на почте, не заметив его. У меня эти истории вызывали, однако, не осуждение, а смутную зависть… неспроста же он налетел на столб — что-то настолько его увлекло!..
Вспомнил я и наши с ним мечты — как мы собирались с ним на охоту, шаркали валенками по паркету, изображая лыжи… обсуждали покупку доберман-пинчера — горячо, с подробностями… ничего не сбылось, но почему-то запомнилось.
Всё это так горячо вспомнилось теперь, потому что всё зашаталось. А ведь была хорошая семья! Помню, как я нетерпеливо в темноте спальни ждал их прихода из театра — и как являлись они — нарядные, довольные, и обязательно приносили нам что-нибудь театрально-необычное — пирожное, шоколад.
А теперь трещина разлуки никак не могла сузиться, всё, что было плохого — всплыло, а хорошее при такой жизни не могло существовать. И отцу, конечно, было не выдержать одиночества и бесприютности в своей пустыне…
И вот мы все сидим на кроватях в нашей длинной комнате (вся она была заставлена кроватями — бабушкиной, моей, Эли, Оли), тесно сидим на кроватях вместе с мамой и отцом — тесно, обнявшись, но объятие это отчаянное — и все плачем.
Оказалось, что измученный отец не выдержал голода и одиночества вдали от дома и нашёл там очаг — в чём сейчас нам и признался.
Плачет и отец. Потом все вроде успокаиваются — инцидент, вроде бы, весь позади.
— Ну вот и хорошо. Поплакали, и будет! — счастливо улыбаясь сквозь слёзы, говорит старшая сестра Эля.
Но оказалось, что под слёзы и улыбки (так легче!) мы перешли самый трудный перевал — и дальше всё покатилось быстрей! Что стоили все те искренние умиления и клятвы, когда на следующее утро отец снова уехал в туманную даль? Таков ход всякой беды — сначала она мелькнёт вскользь — как нелепость, невероятная чушь, потом, возбудившись, все скопом набрасываются на неё, бессильно терзают, и пережив этот самый трудный момент, она потом распространяется уже тихо и грозно. У нас дома перестали об этом говорить — хотя у всех было предчувствие, что ничего не прошло, а наоборот — приходит. Но что было делать? Только бросаться со всем скарбом, со всеми детишками десантом туда — но такие драматические действия не в духе нашей семьи, да и большинство людей на такое не способны; многие даже тонут молча. Разумеется, есть такие люди, которые сразу же повышают голос, не боясь обозначить горе, наступающую беду. Может, они и ворочают жизнью, добиваются своего… но большинство людей в наши дни обозначают горе лишь повышенной тишиной.
Так в тишине всё и произошло — и, наверное, правильно мы делали, занимаясь каждый своими делами, увлекаясь в это время совсем другим. Если б мы начали «бороться» — наверное, кроме нескольких сцен дурного вкуса ничего бы не получили. Так всё тихо таяло и растаяло, наконец. Честно скажу — первый выходной, в который не появился отец, я даже и не запомнил, не запомнил и второй, и третий. Вместо одной истины: у нас всё прекрасно, отличная семья, — проступила другая: нашей весёлой семьи больше не существует.
С волнением я рассматриваю семейные фотографии — и как назло их не так уж много… в основном — одна серия… Однажды родители, посовещавшись (когда-то много волнений посвящали они нашему воспитанию!), решили провести нас по красивейшим местам Петербурга («Ведь они, кроме своих переулков, ничего не видят!»). Был приглашён и знаменитый институтский фотограф. Сначала, помню, этих карточек было много, теперь сохранилась только одна: мы все вместе стоим у памятника Николаю возле Исаакия. Сзади — мать и отец, впереди Эля, Оля и я. Всё благополучно на этом снимке. Интересно — всё дальнейшее существовало уже тогда или могло пойти по-другому? Являются беды постепенно или сразу? Вот про что я думаю теперь, в разгаре — а может, уже и на спаде своей собственной жизни.
Одно только я могу сказать: почти ничего в жизни не бывает однозначным или одноцветным. В моей жизни, например, с уходом отца появилась некоторая свобода, возможность манёвра… именно благодаря этому я смог прийти к тому, к чему пришёл. Если бы отец жил с нами, то он вряд ли имел бы право терпеть мои немыслимые эскапады (например, трёхлетнее неподвижное лежание на диване якобы в глубоких размышлениях). А так — он этого не видел — и ему легче, и мне. Иначе была бы война, неизвестно чем бы кончившаяся. Да я и сам в роли отца не потерпел бы таких выходок, какие допускал я, будучи сыном! А так — всё как-то образовалось, и самую тревожную и самую смутную часть жизни прошёл я не на его глазах… потому что в любую трудную минуту тревога множится пропорционально количеству глаз. А так — легче.
Читать дальше


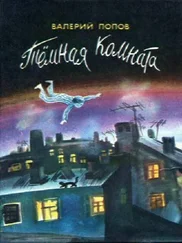

![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
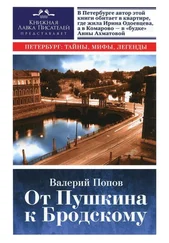
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)