Помню самого страшного из них, коротко стриженного, черноглазого, с тяжёлым носом — Муратова. Тревога, странный головокружительный выход за пределы человеческого, за пределы объяснимого наполнили наше существование. Пластилиновая бомба с чернилами на скамейке, чернильный взрыв на новеньких брюках — ну как же так можно, ведь брюки эти только что куплены их обладателю — легко ли? Летающие на бумажных крылышках перья из «вставочек», цепко вонзающиеся то в кость головы, то в веко! Как же так? Помню своё потрясение в момент, когда я, деловито готовясь к уроку, достал вместо ручки карандаш, с издевательски надетым на него колпачком от ручки, и долго беспомощно оглядывался: как же так? Эта же ручка — подарок отца! Всё человеческое исчезло, остались лишь злоба и издевательство.
Потом — по очередному решению — детдомовцы схлынули, но их порядок остался, стиль расправы и бесправия продолжал царить. Юра Рудный, маленький крепыш с белыми вытаращенными глазами, мог неожиданно жахнуть под дых и под общий одобрительный смех неторопливо, вразвалочку двинуться дальше.
Астапов, прикреплённый ко мне для подтягивания по всем предметам, измученный, остроносый, зелёно-синий, вдруг яростно набрасывался на меня по пути из школы — рыдая, я приходил домой: ну как же так, я же собирался ему помочь?!
Родители, как могли, успокаивали меня, тяжёлые мои вздохи раздавались всё реже.
— Думай о чём-нибудь приятном, — говорила мама.
— А об Астапове не думай, — говорил отец. — Ему будет плохо, гораздо хуже, чем тебе!
И действительно, он скатился вниз как-то очень быстро, — а ведь жаль, я же приходил к нему по утрам в соседний девятый дом, он готовился, убирал обеденный стол, раскладывал книги. Мы говорили с ним об интересных вещах — но тяжёлое, мрачное, чуждое мне, что чувствовалось даже в запахе узкой их комнаты, видимо, перевесило, поволокло во тьму.
Может, чувствовали Астапов и Рудный, что правят последний в их жизни бал, на котором в последний раз они короли, дальше их жизнь переходит в сферу, где их «таланты» стоят копейку? Так и вышло — уже очень рано, лет с четырнадцати я перестал их встречать там, где находятся люди, более-менее удержавшиеся на поверхности.
Очень медленно, постепенно цена по уму и по характеру устанавливалась в школе, очень медленно — к самому концу, но ведь конец и решает всё. И мы, каждый из нас, ориентировались в тревоге и в тумане, каждый находя для себя — с кем и куда. Помню, как Серёжка Архиереев панибратски-небрежно говорит про какого-то Борьку Шашерина, величественного короля улицы, которому даже и не надо доказывать уже своё величие драками и вообще ничем — один его приход — плотного, в светлой кепке, вызывает оцепенение счастья — Борька, скорее, даже рассеян и благодушен, чем грозен, но сила его незыблема, мысль о его свержении нелепа, легенды о расправах над противниками, заканчивающихся какой-нибудь хлёсткой шуткой, общеизвестны: «А Борька Шашерин тут и говорит… пришли с Борькой Шашериным…» — упоённо брызгая на букве «ш» слюной через зубы, поёт и поёт Серёга. Куда бы деться от этих невнятных баек о Шашерине? — с тоской озираясь, думаю я.
У меня другой идеал. Наша лестница, по которой мы спускались, уходила в подвал, и там, за дверью вправо, жила Клавдия Петровна, дворничиха, женщина суровая, но благородная, оказавшаяся в дворничихах, видимо, по необходимости.
У неё был сын, Юра Петров, коренастый блондин, всегда в белой, чистой рубашке. До сей поры моей жизни никто не вызывал у меня такого озноба восхищения, как он.
Помню, мы играем под аркой тонкими звонкими пятаками в пристенок, выискивая места, где штукатурка скололась и краснеет кирпич: удар звонче, пятак дальше летит. Солнце и зной косо стоят в темноте арки. Как-то небрежно появляется Юра, в белой рубашке, легкомысленно чмокая мороженым.
— Ну как? — подобострастно спрашиваем мы его.
— Отлично, разумеется! — произносит он.
Мы цепенеем. Ответ этот означает, что он на отлично — как и предыдущие — сдал последний экзамен на аттестат зрелости — и при этом улыбается спокойно и слегка небрежно!
У меня сладко ноет в позвоночнике… Вот так пойти, почти не готовясь, и сдать самому первому из всех, как бы мимоходом, и небрежно вернуться!..
Какая-то дрожь начинается у меня, когда он рядом. Бог с ними, с учителями, а тем более — с тупыми и грубыми учениками — но он-то, он-то должен почувствовать, кто я!
Я бы и сам не мог тогда этого объяснить — кто же я? Я! И с ликованьем я замечаю, что он — первый в мире — меня видит! Не родители (которые знают меня как сына), а видит и различает меня чужой умный человек!
Читать дальше


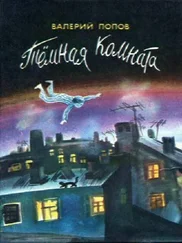

![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
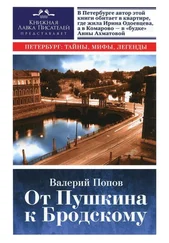
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)