Любовную беседку мы называли Восток.
Франц, сунь руку в огонь, пусть она нам посветит!
По неосторожности Франц, играя с ножом, острие которого он пропускал между растопыренными пальцами руки, как барабанную палочку, уже лишился мизинца. С тех пор он с еще большим рвением совал в огонь свою «аварию» — так он это называл.
Он вылил на палец керосин и поджег его своей зажигалкой. Мы испугались и расхохотались, он тоже рассмеялся и быстро сунул горящий палец в карман своего синего комбинезона, чтобы сбить пламя, одновременно свободной рукой вытащив из левого уха зажженную сигарету. Парни-шорники пришли в восторг.
Тот, кто никогда не видел, как Франц разгуливает на руках по нашему дровяному сараю, кто никогда не встречался взглядом с морской русалкой, обвивавшей своими чернильными руками его берцовую кость и медленно уплывавшей вверх под закатанной штаниной, тот не принадлежал к избранному кругу посвященных. И для такого олуха не было места на заднем сиденье его «харлея». В хорошие дни Франц выкатывал свой драгоценный мотоцикл из мастерской на солнце, дабы мы, самые отважные и самые обремененные жизнью, смогли воспарить на его роскошном сиденье, освобождаясь от всех земных тягот и забот.
Клейма счастья — вот что украшало наши бедра и лодыжки, когда на длинном вираже за сыроварней Винона, уступая центробежной силе, мы прижимались обнаженной плотью к горячим выхлопным трубам.
Только дома наше счастье снова оборачивалось болью, раны саднили. Их смазывали сливочным маслом и строго-настрого запрещали нам дурацкие бешеные гонки.
За этой широкой спиной царил темный вакуум, пахнувший кожей. Мимо моих острых голых коленок проносился асфальт со шрамами травы. Сверкали крышки канализационных люков. Теперь руль тяжелого мотоцикла держал в руках мой тридцатидвухлетний отец.
Пейзаж, в который мы въезжали, пульсировал, как открытый родничок. По краям он отсвечивал красным. Какой-то пьяный крестьянин пер в своем «форде» прямо на нас. Отец свернул на обочину, затормозил. Из открытого багажника «форда», продолжавшего чертить зигзаги, выплескивалось молоко.
Мы вроде как почти спаслись, сказал я отцу. Что-то в этом тезисе показалось ему ошибочным, но он не стал поправлять, поднял меня на руки и прижал к груди. Тяжело дыша, мы уселись рядом на скошенной траве.
Гидроцефал. Круглое, волосатое, безногое насекомое, величиной с груженный сеном воз, двигалось с морены через поле нам навстречу. Мы поехали дальше.
Я пытался представить себе своего младшего брата, чья голова, как нам сказали, росла слишком быстро. Встревоженные этой чрезмерностью, мы мчались по долине вниз, панически и одновременно титанически врастая в стремительно сгущавшиеся сумерки. В столице кантона как по команде зажглись огни.
Когда мы вошли в больничную палату, брат спал. Его шаровидная головка лежала на белой подушке и не знала о себе ничего. И я тоже не видел того, о чем знал. Только позже прагматичная жизнь научила нас, что значит слово «водянка».
Я обернулся к маминой кровати. Мама лежала в луже боли и тянула ко мне руку. Я не снял своего кожаного шлема.
Отчаяние постепенно наполняло палату электричеством, в наших глазах вспыхнул зеленый свет. Сверточек проснулся.
Вместе
мы его потянем,
назло всему свету, — сказал отец.
Когда мы вернулись домой, гладильщица все еще стояла у своей доски и крахмалила наши воротники. Нам предстояло высоко держать голову.
Мы использовали второй этаж нашего дома только для сна, во время болезни и по большим праздникам. Все остальное время мы проводили на нижнем этаже. В пекарне, на кухне, в лавке. И в комнатушке рядом с лавкой, с узорами инея на окнах.
Летом на подоконнике цвели пышущие здоровьем герани. Потому что у мамы были «зеленые» руки. И эти растения, такие зеленые, красные, роскошные, были другой стороной ее жизни. Все, к чему она прикасалась, пускало корни, расцветало, приносило плоды и сияние в ее потухшие глаза. Вместе с зимними астрами сияние снова исчезало.
Нашу комнатушку отец упорно называл «конторой», так как в заднем ее углу стоял его письменный стол, а в самом верхнем ящике стола лежали голубая амбарная книга, счета и квитанции.
Его стол служил нам чуланом для одежды, писем, макулатуры, школьных мелочей. Между ластиками, бабушкиными пинцетами (для росших на подбородке волос), кнопками и карандашами копилась пыль.
Читать дальше
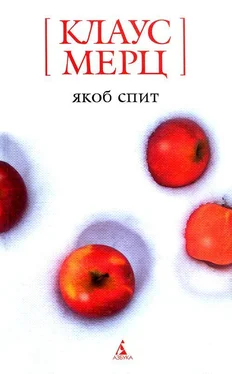

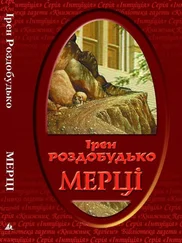

![Елена Булганова - Девочка, которая спит. Девочка, которая ждет. Девочка, которая любит [сборник litres]](/books/436759/elena-bulganova-devochka-kotoraya-spit-devochka-ko-thumb.webp)






