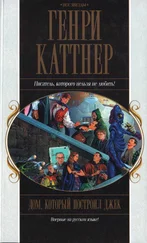Викентий Ильич упорно молчал.
— Вас не поймали после разгрома Краснова, не взяли сонного в копне сена, как взяли меня. Вы пришли добровольно, иначе не оказались бы в офицерском резерве. Так что же вы намереваетесь делать?
— Очень русский вопрос, Старшов. И очень русский ответ: а черт его знает. Знаю только, что не могу убивать, хватит с меня одного убийства. Но и готовить к бою тех, кто побежит с винтовкой наперевес, я тоже не могу. Я не желаю быть убийцей, но и готовить убийц, как это делаете вы, я тоже не желаю. Не желаю, Старшов! Мне стыдно, что я пожал вашу руку, потому что в известном смысле вы… вы бесчестнее меня.
— Не будем спорить о чести, — тихо сказал Леонид.
— Прошу извинить. Больше всего на свете я бы хотел оказаться сейчас в Саратове. Жена, дочь, мать. Лучше подметать улицы, чем участвовать в такой войне, которая вот-вот полыхнет по всей России.
— Лучше, — согласился Старшов. — Только не дадут вам за метлой отсидеться. Незваный.
— Кто не даст? Ваши новые хозяева?
— События. Что-то соскочило в нашей истории, и Россию понесла взбесившаяся гоголевская тройка с Селифаном на козлах. — Он помолчал. — Полагаю, мы более не увидимся, но совет все же позволю. Семья — не спасение, метла — не спасение, и генералы — тоже не спасение. Спасение — сама Россия, но мы попали в такой водоворот, когда каждый ищет ее сам. Найдите и уцепитесь.
Он коротко кивнул и пошел по гулкому пустому коридору, не оглядываясь. Он держал спину неестественно прямо, потому что на душе было пусто: позади оставался один из самых проверенных друзей, и оставался навсегда. Как все вчерашнее, прочное, основательное. Когда он подумал об этом, горечь в душе его стала почти торжественной: в один и тот же день ему случилось повстречаться со своим будущим и попрощаться с прошлым. И в этом ему опять чудился некий особый символ. Выбор был сделан, но не мандатом военного руководителя, не перед строем красногвардейцев, а здесь, на подоконнике гулкого пустого коридора хозяйственного этажа.
И тревожная тяжесть этого добровольного выбора долго не давала уснуть.
Забылся он уже к утру, да и то ненадолго. Встал до общего подъема и, ни с кем не попрощавшись, выехал к месту новой службы. На трамвае с двумя пересадками.
Лера Вологодова, племянница Николая Ивановича Олексина, дочь сановника и прекрасной безумицы Надежды Ивановны, жертвы страшной Ходынской катастрофы, шагнула в свое будущее, даже не оглянувшись. Случилось это в конце октября, в самый разгар боевых действий: поздно вечером забарабанили в дверь, Лера открыла — она оказалась ближе и вообще жила в каком-то странном, нервозном ожидании. На пороге стоял Алексей: Надежда Ивановна хорошо знала его как близкого друга своего сына Кирилла. Они вместе учились в юнкерском, он часто бывал в их доме, и тогда споры не утихали до поздней ночи.
— Лера, у нас — тяжелораненые, юнкера обходят с Пречистенки, хотите нам помочь?
И Лера пошла сразу, как стояла, так и пошла, одевая пальто уже на ходу.
— Лера! Лерочка! — отчаянно закричала Надежда, но Лера так и не оглянулась.
Надежда совсем потеряла голову. Разбудила уже уснувшего мужа, заставила одеться, потащила с собой на прошитые стрельбой московские улицы. Они бегали до утра, охрипли от криков, чудом не угодили под огонь, но вернулись ни с чем. И Надежда, с трудом проглотив полчашки чая, опять помчалась на улицы, и Викентий Корнелиевич метался вместе с нею.
Трое сумасшедших суток они почти не спали. Бегали по улицам, заходили в какие-то штабы, расспрашивали всех, кого только могли встретить, но никто ничего не знал ни о дочери, ни о бывшем поручике Алексее, фамилию которого Надежда так и не смогла вспомнить. А потом дворник принес письмо.
— Солдат велел вам передать, Надежда Ивановна.
В собственные, чтоб, говорит, руки.
«Родные мои! Мои добрые, мои дорогие, мои самые любимые на свете, я не вернусь. Простите меня, если можете, но я выбрала свою дорогу и никогда с нее не сверну. Это — моя дорога, одна-единственная, другой нет и быть не может.
Мамочка, бесценная, любимая моя мамочка! Я знаю, сколько горя я приношу тебе своим решением, но я уверена, ты будешь гордиться моим выбором. Мы вернемся после победы, непременно вернемся вместе с Алексеем и станем перед тобою на колени. А пока я нежно целую тебя и папу и обязуюсь писать при первой возможности.
Простите вашу дочь, сошедшую с ума от судьбы и любви.
Лера».
После этого письма Надежда странно успокоилась, удвоив время привычных молитв. Удрученный поступком дочери и озабоченный поведением жены, Викентий Корнелиевич как-то осторожно завел разговор о продолжении розысков Леры, об обращении в полицию, если, конечно, она существует. О возможном использовании всех его многочисленных связей, знакомств, приятельских отношений. А Надежда в ответ тихо улыбнулась, и ее прекрасные, всегда отсутствующие глаза на миг стали теплыми, яркими, удивленными.
Читать дальше