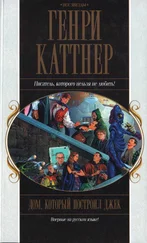Спустя воскресенье в церкви села Княжого отец Лонгин скромно обвенчал немолодую влюбленную пару. Торжество отметили в семейном кругу, где генерал с горячностью провозглашал тосты, дочери радовались, Минин одобрительно улыбался, а невеста помалкивала. И высказалась только на утро:
— Друг мой, отныне мы — едины, и все наше — едино. Прошу вас распоряжаться бывшим моим имуществом, как вам заблагорассудится, но вынуждена напомнить, что своим имуществом без моего согласия вы распоряжаться уже не имеете права.
А за завтраком сказала Тане:
— Учи женскую логику. Она, правда, нигде не преподается, но ее всегда можно извлечь из обстоятельств.
«Село Княжое Ельнинского уезда
Смоленской губернии
госпоже Слухачевой
для Варвары Николаевны.
Письмо №…
7 февраля 1918 года.
Варенька, любимая!
Я столько написал писем, что вдруг забыл номер предыдущего. Знаю, что количество их перевалило за три сотни, но это оставлю без номера, а следующее помечу «№301». У меня были хлопотные дни, но все уже позади. Я жив, здоров, не ранен и не простужен, и все мои помыслы — с тобой и детьми, где бы я ни был и чем бы я ни занимался…»
Это письмо Леонид так и не отправил Вареньке. Он дописал его, перечитал, но оно показалось ему таким неискренним, что посылать его он не решился. Долго таскал с собой, а потом сжег
Анархисты приняли Старшова скверно. Если красногвардейцы Затырина были настороженно недоверчивы, то матросы вольного анархистского отряда встретили злым неприятием. Арбузов представил его кандидатом на должность помощника начальника штаба, и его в конце концов выбрали, поскольку все должности в отряде вообще были выборными. Но начальником штаба еще до этого избрали того верзилу-матроса, который оставил кисет Старшову при первом знакомстве в прокуренном кубрике линкора. Он носил странное прозвище «Желвак», идущее то ли от фамилии, то ли от привычки грозно катать желваки на шершавых обветренных скулах. Он часто орал, двигая этими желваками, но его не очень-то боялись, как показалось Старшову. Отряд по-настоящему побаивался одного Арбузова, который никогда не повышал голоса, часто заходясь в кашле. Однако не просто потому, что Арбузов, почти не целясь, навскидку расписался на церковной стене из маузера, а потому, что никто не мог предсказать, когда и по какому поводу этот маузер окажется в его руке. Желвак был криклив, но отходчив, в нем не ощущалось непредсказуемой ярости Арбузова, что, однако, мало облегчало жизнь его непосредственным подчиненным, а Леониду Старшову в особенности.
— Доверяю только себе, — объявил он Старшову при первом свидании. — Ребят агитировать не стану, если выберут помощником — подвинусь, но ходить ты у меня будешь без веры, и оружие я тебе выдам только после первого боя. А пока знай, что у зрачка моего маузера классовый взгляд.
С корабля отряд списали, жили они на берегу, в старых казармах, и особой подготовкой себя не утруждали. Кое-как, с ленцой и руганью, осваивали наступление цепью и рассыпным строем, штыковой бой и перебежки под огнем, и даже окапывание лежа, но рыть окопы отказались категорически, и Старшов для примера сам выдолбил в мерзлом грунте окоп длиною два метра, но зато полного профиля. Желвак пошутил было насчет личной могилки, но матросы шутки не поддержали: упорство, с которым новый помощник начальника штаба знакомил их с пехотными премудростями, оценили по достоинству.
А упорства никакого уже не было, и сам Старшов тоже понимал, что выковырял не окоп, а могилу, потому что никакой скрытой теплоты в душе его давно не ощущалось, и он мерз по ночам от собственного отчаяния. Вера — ну, хорошо, не вера, так основание для нее, некий фундамент храма, почва для посева — все растаяло, как вчерашнее мороженое, оставив жирную кляксу на совести да липкий привкус в самооценке. Если позавчера он искренне верил, что готовит Вильгельмов Теллей, а вчера — что в буквальном смысле стоит на страже порядка и закона, то сегодня с холодным автоматизмом обучал тому, что знал сам, кого-то весьма неопределенного. То ли последних романтиков восторженно доверчивой России, то ли первых циников и растлителей ее души и тела. И неискренне письмо Вареньке он написал не потому, что хотел скрыть от нее всю ту грязь, через которую переполз, а потому, что впервые пожалел, что у него есть семья, любимая жена и любимые дети. Нет, не они оковывали его волю, а он — их, потому что отныне каждое его непродуманное, не взвешенное на аптекарских весах действие могло обернуться для них либо плотом в захлестнувшем Россию потопе, либо ядром, прикованным к ногам. Не было более ни законов государства, стоявших выше властей, ни законов чести, стоявших выше его жизни: власть сама диктовала выгодные ей законы, а честь, его личная офицерская честь, обернулась залогом существования его семьи. Она перестала быть его личной честью, потому что отныне не он расплачивался за нее, а все те, адрес которых он старательно и подробно переписывал из анкеты в анкету.
Читать дальше