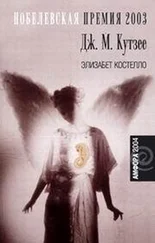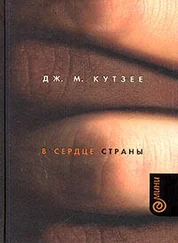— Хочу поговорить с тобой, Михаэлс. Если ты не будешь есть, ты и в самом деле умрешь. Это ясно как божий день. Ты будешь умирать долго, мучительно, но в конце концов все равно умрешь. И я ничего не сделаю, чтобы помешать тебе. Мне ничего не стоит привязать тебя к кровати, вставить в горло трубку и кормить насильно, но я не стану. Я не хочу обращаться с тобой как с ребенком или как с животным, я хочу обращаться с тобой как со свободным человеком. Если ты решил расстаться с жизнью, что ж, расставайся, это твоя жизнь, не моя.
Он отвел руку от глаз и глухо откашлялся. Хотел что-то сказать, но не сказал, покачал головой и улыбнулся. В свете фонарика его улыбка показалась отталкивающей, похожей на акулий оскал.
— Чего бы ты хотел съесть? — спросил я шепотом. — Какую еду ты станешь есть?
Он медленно протянул руку и отвел фонарик в сторону. Потом повернулся на другой бок и снова заснул.
* * *
Перевоспитание сентябрьской партии закончилось, и сегодня утром длинная босоногая колонна наших подопечных с барабанщиком впереди и с охранниками по флангам отправилась за двенадцать километров на вокзал, откуда их повезут в глубь страны. В лагере осталось шесть человек неисправимых, запертых и ждущих отправки в Мюлдерсрус, и трое лежачих больных в лазарете. Один из них Михаэлс: с тех пор как он отказался, чтобы его кормили через трубку, он не взял в рот ни крошки.
Ветерок несет запах карболки, приятная тишина. Мне легко, я почти счастлив. Значит, вот как все будет, когда кончится война и лагерь закроют? (А может быть, лагерь даже и тогда не закроют? Ведь лагеря с высокими заборами всегда нужны.) Весь лагерный персонал, кроме нескольких человек, разъехался на выходные. В понедельник ожидается ноябрьское поступление. Но железнодорожное сообщение сейчас настолько ненадежно, что ничего нельзя загадывать, даже за день вперед. Неделю назад было нападение на Де-Ар, серьезно повреждены станционные пути. Ни газеты, ни радио об этом не сообщали, но Ноэль узнал из достоверных источников.
* * *
Я купил у уличного торговца на Мейн-роуд кабачок, разрезал на тонкие ломти и поджарил в тостере.
— Это не тыква, — сказал я Михаэлсу, усаживая его в подушках, — но по вкусу очень похоже.
Он откусил кусочек и стал с трудом мусолить во рту.
— Нравится? — спросил я.
Он кивнул. Кабачок был посыпан сахаром, но вот корицы у меня не нашлось. Я посидел немного и ушел, чтобы не смущать его. Вернулся — он лежит, и тарелка возле него пустая. Когда Фелисити будет в следующий раз убирать палату, она выметет из-под кровати куски кабачка, сплошь облепленные муравьями. Жалко.
— Как убедить тебя, что надо есть? — спросил я его.
Он молчал так долго, что я подумал, он заснул. Но вот он откашлялся.
Никому никогда раньше не было дела, что я ем, — проговорил он. — И я спрашиваю себя: вам-то что до меня?
Я не могу смотреть, как ты умираешь от голода. Я вообще не хочу, чтобы кто-нибудь здесь умер от голода.
Вряд ли он слышал меня. Его растрескавшиеся губы продолжали шевелиться, словно он боялся потерять какую-то мысль:
Я все спрашиваю себя, что я этому человеку? Я спрашиваю себя: какое дело этому человеку жив я или умер?
С таким же успехом ты мог бы спросить, почему мы не расстреливаем заключенных. Примерно тот же самый вопрос.
Он покачал головой и вдруг открыл глаза и посмотрел на меня огромными темными озерами. Я хотел еще что-то сказать, но не смог. Абсурд — спорить с человеком, который глядит на тебя словно бы из могилы.
Мы долго смотрели друг на друга. Потом я услышал, что говорю, вернее не говорю, а шепчу. В голове у меня мелькнуло: я сдался. Именно так себя чувствуешь, когда потерпел поражение.
— Я мог бы задать тот же вопрос тебе, — шептал я, — тот же вопрос, что ты задал мне: что я этому человеку? — шептал я все тише и тише, и сердце у меня гулко стучало. — Я не звал тебя сюда. Пока ты не появился, у меня все было хорошо. Я был счастлив — насколько человек может быть счастлив в таком месте. Поэтому я тоже спрашиваю: что мне до тебя?
Он снова закрыл глаза. Горло у меня пересохло. Я ушел в умывалку, выпил воды и долго стоял, прислонившись к раковине, меня переполняла печаль, я думал, что вот-вот случится беда, а я к ней не готов. Я вернулся к нему со стаканом воды.
— Пусть ты не ешь, — сказал я, — но пить ты все равно должен.
Помог ему сесть, он сделал несколько глотков.
* * *
Дорогой Михаэлс, я отвечу на твой вопрос. Я хочу узнать историю твоей жизни. Хочу понять, как случилось, что ты, именно ты, замешался в войну, которая не имеет к тебе никакого отношения. Ты не солдат, Михаэлс, ты комическая фигура, шут, ярмарочный деревянный человечек. Что ты делаешь в этом лагере? Мы не можем перевоспитать тебя, не можем освободить от жаждущей мести матери с пылающими волосами, которая преследует тебя в твоих снах. Я правильно себе все это представляю? Мне кажется, что правильно. И для какого дела мы должны тебя перевоспитывать? Чтобы ты плел корзины? Стриг газоны? Ты точно насекомое палочник, Михаэлс, единственная защита которого от всех хищников мира — его причудливая форма. Ты точно палочник, который бог весть откуда взялся посреди огромного, голого, покрытого асфальтом плаца. Ты медленно поднимаешь то одну, то другую тоненькую ножку-палочку, ты ползешь, тщетно надеясь слиться с чем-нибудь, спрятаться. Зачем ты вообще ушел из сада, Михаэлс? Твое место там. Жил бы себе всю жизнь где-нибудь на тихой окраине, в дальнем углу запущенного сада, в неприметном кустике, делал бы то, что положено делать насекомым — обгрызал листочки, ел тлей, пил росу. И — прости, что я вмешиваюсь в твою личную жизнь, — тебе надо было как можно раньше отдалиться от твоей матери, которую я считаю настоящим убийцей. Надо тебе было найти куст подальше от нее и начать независимую жизнь. Ты совершил непоправимую ошибку, Михаэлс, когда взвалил ее на себя и, надеясь спастись, бежал из объятого пламенем города в деревню. Ибо когда я представляю себе, как ты тащил ее, чуть не падая под ее тяжестью, задыхаясь в дыму, увертываясь от пуль и совершая все прочие подвиги, на которые вдохновляла тебя сыновняя привязанность, я вижу и ее: она сидит у тебя на плечах, высасывает из твоей головы мозг и с торжеством взирает на всех — великая мать Смерть, ее истинное воплощение. А теперь, когда она умерла, ты хочешь последовать за ней. Я не раз думал: что ты видишь, Михаэлс, когда так широко раскрываешь глаза? Ведь, конечно же, ты видишь не меня, не белые стены и пустые койки лазарета, не Фелисити в ее белоснежной шапочке. Что ты видишь? Свою мать в нимбе пылающих волос, она усмехается и манит тебя скрюченным пальцем, зовет пройти сквозь завесу света к ней, в тот, другой, мир? И этим объясняется твое равнодушие к жизни?
Читать дальше