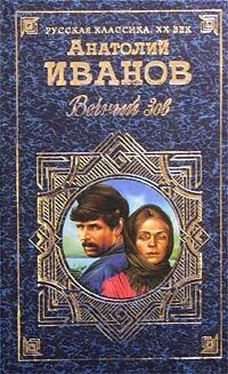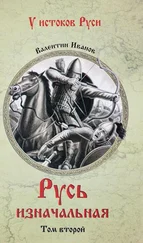* * * *
Солнце садилось, синие тени от приземистых эмтээсовских построек и мастерских расплывались на утоптанном, не успевшем почернеть еще снегу.
В красном уголке гало собрание механизаторов по поводу «усиления темпов ремонта и подготовки машинно-тракторного парка к севу», как было написано в объявлении, которое попалось на глаза Федору еще утром.
На собрание приехал Кружилин, но говорил он пока не об эмтээсовских делах, а рассказывал о положении на фронте. Он говорил, что от Москвы немцев отогнали на восемьдесят-сто, местами даже на двести километров и более и продолжают гнать дальше, что правительство в начале марта приняло постановление о подготовке к весеннему севу 1942 года МТС Московской, Ленинградской, Калининской, Тульской, Орловской и Курской областей, что, возможно, к началу сева все эти области целиком будут освобождены. Однако, говорил Кружилин, положение тяжелое, Ленинград находится в круговой блокаде, немцы рвутся к Волге и на Кавказ…
Федор сидел у окна, глядел на длинные синие тени. Слова Кружилина доносились глухо, еле-еле, будто уши у Федора были туго забиты ватой. Зато отчетливо долбило и долбило в голову молотком прежнее: «Он знал, зачем он жил…» — «Зачем тогда ты живешь-то?»
«А зачем действительно? — подумал вдруг Федор. — И — как?!»
Он нахмурился, крепко, до ломоты в деснах, сжал зубы, до звона в голове напряг память, будто одним страшным и неимоверным усилием воли хотел вспомнить всю свою жизнь до мельчайших подробностей, оглядеть ее враз как бы со стороны, с высоты какой-то. Но вспомнить ничего не мог, кроме того недавнего вечера, когда он последний раз ходил к Анфисе, когда, вернувшись, обнаружил в своем доме Ивана. Да и то вспомнил не Анфису и Ивана, а свой разговор с женой после ухода брата. Но зато почти до последнего слова, до малейших оттенков ее голоса.
«— Значит, сама надумала уйти от меня? То-то, гляжу, осмелела, Ваньку ночевать оставляла.
— Уйду, сил больше нет.
— Расклеилась. Никуда ты не уйдешь. И на том покончим.
— Уйду, уйду, уйду! Выпил ты всю кровь из меня, все соки… Все, все правильно Иван сказал про тебя: не любишь ты никого — ни меня, ни детей, ни жизнь эту, ни власть, — никого. И себя, должно, не любишь! Зачем тогда ты живешь-то? Зачем?
— Интересно! Ну а дальше? Или всё?
— И на мне ты хотел жениться из жадности к отцовскому богатству… чтобы… чтобы развратничать потом на заимке, как отец.
— Вовсе интересно, хе-хе!.. Женился-то я в девятнадцатом на тебе, когда в партизанах был. К тому времени от богатства вашего один дым остался.
— Это уж так получилось, что в девятнадцатом… А я говорю — хотел раньше. Любил-то Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне… А что от богатства нашего дым один остался — это тебя и точит всю жизнь, как червяк дерево.
— Замолчи… об чем не знаешь!
— Знаю! И отца моего ты жалеешь, которого Иван застрелил. А брата своего за это и ненавидишь… за то, что опомнился он, Иван, тогда, перешел к партизанам, понял, где правда… Ты мстишь ему за это всю жизнь, потому что больше-то никому не в силах мстить… али боишься другим-то! Вот… Этаким никто тебя не знает, а я — знаю. Теперь… теперь тебя и он, Иван, раскусил… Теперь он тебе и вовсе смертельный враг…
— 3-замолчь! Ты-ы!»
Бубнил что-то, расхаживая около красного стола, Поликарп Кружилин, встряхивая головой, точно бодал воздух. «Ну да, ну да, это она правду сказала… Не все в ее словах правда, но есть. Про Анфиску, например… — мелькали, неслись куда-то неясные, перепутанные мысли Федора. — Как она сказала-то?
«Любил-mo Анфису, жил ведь тогда еще с ней, а жениться хотел на мне…»
Все правильно. Месяца через полтора не то два после того, как получил от Инютина четыре десятки — заканчивали жать тогда кафтановскую рожь под Зве-нигорой, — Федор отработал эти деньги. Всю страду наравне со взрослыми бабами Анфиса жала и вязала снопы, Федор подвозил жницам харчи, воду из Громотухи, следил, крепко ли снопы эти вяжут, правильно ли составляют в суслоны, не ленится ли кто на работе, — словом, был приставлен к бабам в начальники.
— Ну? — не раз за это время протыкал его одноногий Инютин вроде и мягкими, водянистыми глазами. — Зазря я тебя на этакую лентяйскую должность определил?
— Как я? — воротил лицо от его взгляда Федор. — Матка при ней, взора не спускает.
Отворачивался, но примечал, что глаза Инютина сохнут, делаются еще меньше и острее. Когда Инютин перевел Анфисину мать на другие работы, подальше от дочери, стал говорить другое:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу