– Ну как же можно так одеваться, Маша, дура!… – кричу я.
Я вливаю Маше в рот брагу, кручу ее перед печкой, поворачивая к теплу спиной, животом, боками. Я безжалостно мну и растираю ее одеревеневшие мышцы, не стесняясь ее наготы. Маша качается под моими руками как дерево, стонет и плачет – от боли, от стыда, от счастья. Я, как поезд с толкача, гоню кровь по ее артериям.
– Двигайся! – рычу я. – Шевелись! Живи!
Я ставлю ее лицом к топке и прижимаюсь к ее спине животом, защищая от холода, летящего из выбитого окошка. Я греюсь теплом, которое от печки проходит сквозь Машу, и это тепло возвращаю ей обратно, как Луна возвращает Земле солнечный свет. Гладкий язык вселенной, просовываясь в выбитое окно, лижет меня по спине. Я пью брагу, курю, но не отпускаю Машу. Я боюсь за нее. Я чувствую себя реанимацией, искусственным дыханием, ее запасным сердцем.
– Вы сами согрейтесь… – говорит Маша. – Я уже не умру…
«Оживает», – думаю я. Я отогреваюсь и сажусь на скамейку.
– Иди на колени, – приказываю я.
Маша устало усаживается ко мне на колени боком, пьет брагу и опускает голову мне на плечо. Я тоже пью брагу и курю, выдыхая в сторону. Я тоже устал. Просто скотски устал. За окном совсем темно. По крыше пекарни ходит дождь. Пекарня загадочно освещена рубиновыми червями, ползающими в черной пещере печки. Кажется, Маша дремлет. Мои руки, сцепленные на изгибе ее талии, ощущают тихое, спокойное, ровное движение ребер. Я тоже закрываю глаза. Полусон громоотводом разряжает напряжение воли, словно распускает натянутые вожжи.
Я просыпаюсь от того, что Машина ладошка невесомо едет по моей скуле, по груди, по животу.
– Не надо, Маша, – говорю я.
– Дайте мне баночку, – помолчав, отвечает она.
Маша делает несколько глотков, переводит дух и снова пьет. Я отнимаю банку и убираю под скамью. От Машиных губ пьяняще, вольно, счастливо и по-весеннему пахнет брагой.
– Виктор Сергеевич, я люблю вас… – шепчет мне в лицо Маша.
Ее руки легкие, как листопад, – не поймаешь ладонь.
– Ты еще девочка, Маша… – как дурак, говорю я.
– Ну и что… Я люблю вас… Я люблю вас… – повторяет она.
Она сползает с моих коленей, ложится спиной на скамью и тянет меня к себе. Я подчиняюсь и ложусь рядом, подсунув руку ей под голову. Я хочу Машу. И Маша хочет меня.
Я хочу Машу. И мне ничего не мешает взять ее. И я представляю все, что может быть – все молнии, танец и медовый ливень. Но одновременно я помню, как Маша плыла в ледяной воде злой речонки, как плакала, стоя на четвереньках посреди залитого дождем луга, как садилась в грязь на обочине таежного проселка. И во мне нет страсти. Страсть отгорела там, в затопленном ночном лесу. Осталось только желание. Оно нежное, тихое, неподвижное, как березовая ветка в безветренную погоду. Я не возьму Машу не потому, что мое чувство к ней – это умиление взрослого ребенком, или робость мужчины с девочкой, или трепет грешника перед ангелом. Нет. Я не возьму Машу по какой-то другой причине, которая мне и самому не понятна. Я просто знаю, что так надо. Я хочу Машу. Но я ее не нарушу.
– Я вас люблю… – шепчет Маша, прижимаясь ко мне.
– Не спеши, – говорю я. – Я все сделаю сам…
Кончиками пальцев я веду по линиям ее лица – по стрелкам бровей, по опущенным полумесяцам век, по излучине мягких губ, ни разу мною не целованных. Маша в последний раз приоткрывает глаза и, наконец, закрывает – словно заходит солнце.
– Я люблю вас… Я люблю вас… Я люблю вас… – словно заколдованная, сквозь сон повторяет Маша.
– Я тоже тебя люблю… – говорю я. – Засыпай… Все хорошо.
Какой-то миг – и Маша уже спит. Я держу ее голову и долго боюсь пошевелиться, глядя на Машино лицо – печальное, усталое, прекрасное русское лицо. Потом я тихонько высвобождаюсь, сажусь на скамейке и сгибаюсь пополам, как от удара под дых. Дикая душевная боль от того, что я удавил свое желание, рвет меня на куски.
Но после я встаю и щупаю одежду. Она почти высохла. Я одеваюсь. Затем осторожно, как куклу, одеваю голую Машу. Наконец, зажигаю сигарету, беру банку с брагой и открываю дверь.
Дождь кончился.
И вот я, Географ, Виктор Сергеевич, бивень, лавина, дорогой и любимый, сижу на пороге пекарни и смотрю на спящую деревню Межень. Я курю. Я пью брагу. Дождя нет, луны нет, но темное, густое небо в зените словно подсвечено каким-то тусклым туманом. Я вижу тяжелые, дымные облачные бугры. А по горизонту, над тайгой, небо охвачено полосой угрюмой тьмы. Расползаясь по склону, слабо громоздится деревня Межень. Чуть светлеют покатые крыши, да кое-где горят огоньки. В ночи шумит на невидимых камнях Ледяная, одиноко брешет вдали собака – то ли облаивая свои собачьи кошмары, то ли откопав в огороде мышь, – и беззвучно, просторно гудит тайга, словно жалуется, переполнившись дождем.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
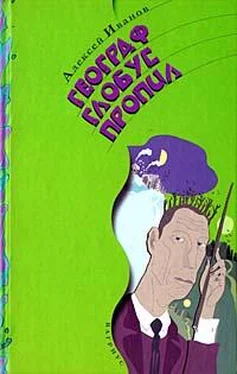

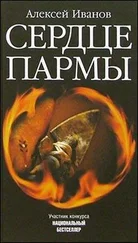
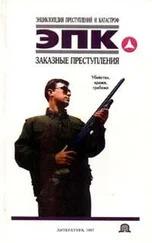
![Алексей Иванов - Боевой жрец [СИ, калибрятина]](/books/27266/aleksej-ivanov-boevoj-zhrec-si-kalibryatina-thumb.webp)


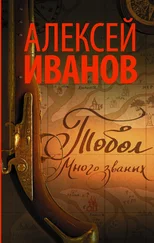




![Алексей Иванов - Географ глобус пропил [авт. ред., изд-во Азбука]](/books/417817/aleksej-ivanov-geograf-globus-propil-avt-red-izd-vo-azbuka-thumb.webp)